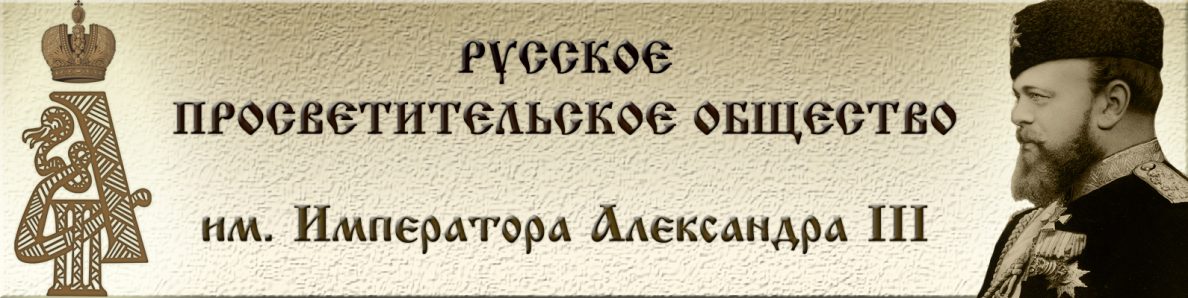Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Эта скорбная дата – напоминание нам о драматических страницах в истории нашей страны. В ХХ столетии на долю ее народов пришлись тяжелые потрясения. Особенно драматичной была первая половина минувшего века. Помимо колоссальных потерь, понесенных в период Гражданской и двух мировых войн, Россия пережила целый ряд иных трагедий, в том числе: гонения на представителей религиозных конфессий; коллективизацию, повлекшую за собой многочисленные жертвы среди крестьян, масштабные политические репрессии.
Начиная с октября 1917 г. и вплоть до первой половины 1950-х гг. социально-политические процессы в стране протекали таким образом, что в государственной политике широко использовались методы насилия и принуждения. Миллионы наших соотечественников и даже целые народы подверглись необоснованным арестам, тюремному заключению, высылке, были казнены по надуманным обвинениям.
Наиболее известными эпизодом советских репрессий является «Большой террор» 1937-1938 гг., называемый также «ежовщиной». Действительно, оргия государственного насилия, которая бушевала в этот период, принесла много горя. Но следует помнить: в условиях ранней советской системы эти события были закономерны. Их подготовили предшествующие годы жестокости.
Крым был одним из первых регионов бывшей Российской империи, открывшим мрачную страницу террора. В декабре 1917 г. в Севастополе произошли первые массовые расстрелы морских офицеров и обывателей. Следом за этим в городе воцарилась «народная, рабоче-крестьянская власть».Используя военные корабли Черноморского флота, отряды красногвардейцев и моряков, большевики и другие левые радикалы быстро подавили очаги сопротивления и к середине января 1918 г. захватили соседние крымские города.
Устанавливая политическое господство, сторонники «углубления революции» безжалостно расправлялись со своими противниками. При этом красногвардейцы и матросы нередко действовали по собственному «почину», без оглядки на распоряжения и приказы ревкомов.
Вот как разворачивались события в административном центре губернии.
11 января 1918 г. Симферопольский военно-революционный комитет (ВРК) принял решение о вооруженном восстании в городе. На следующий день на аэропланном заводе «Анатра» местные большевики провели тайное собрание по вопросу разработки плана захвата власти. В это время на улицах крымской столицы шли бои красногвардейцев с антибольшевистскими формированиями Крымского штаба под командованием полковника Александра Макухина (Макухи). Ночью рабочими завода «Анатра» при участии железнодорожников захвачены почта и телеграф[1]. В ночь 13 на 14 января 1918 г. на помощь местным красногвардейцам прибыли севастопольские матросы. Город окончательно перешел под контроль большевиков.
История сохранила для нас свидетельство очевидца, наблюдавшего занятие города отрядами красногвардейцев и моряков:
«Это были жуткая картина. На автомобилях, с целым лесом штыков, верхами с револьверами в руках, опоясанные крест-накрест пулеметными лентами с патронами, они мчались по городу, стреляя в воздух. На улицах только солдаты да рабочие, они кричали «ура» и бросали вверх шапки. Несмотря на то, что неприятеля по-видимому уже не было, татарские войска побросали оружие и толпами в страхе паническом бежали по деревням, победители все-таки не вполне были уверены в этом. Об этом говорил их вид, об этом говорил их страх, нужды нет, что они были вооружены пулеметами, штыками и винтовками. <…>
Страшно и смешно в то же время было видеть их беспрестанно рычащие автомобили с выставленными отовсюду винтовками и пулеметами позади. Страшно и смешно было видеть скачущих матросов, матрос на лошади <…> с большим наганом в вытянутой правой руке.
Против кого они так вооружились? Против мирных жителей? Или, может быть, они защищали себя? От кого? Тоже от мирных жителей? Для этого, мне кажется было бы достаточно только одного их внешнего вида»[2].
Едва заняв город, сторонники «углубления революции» произвели массированный обстрел двух церквей: Александро-Невского кафедрального собора и Петропавловской церкви.
«Собор, — читаем в материалах Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанте Антоне Деникине, — обстреливался во время архиерейского богослужения; в него стреляли из винтовок, один раз выстрелили из орудия. Этим выстрелом повредили колокольню. В Петропавловскую церковь стреляли из винтовок, при чем последствием этой стрельбы были разбитые стекла»[3].
Причиной обстрела послужил слух о якобы размещенных на колокольнях пулеметах, хотя в действительности там ничего не было.
Одновременно Симферополь захлестнули обыски, аресты, расстрелы. Сразу же после вступления в город матросы стали рыскать по улицам, «производя поиски оружия, занимаясь грабежами серебра, золота и драгоценностей; арестовывали в домах и на улицах офицеров, «спекулянтов», и «буржуев» и многих из арестованных расстреляли»[4]. При этом некоторые квартиры были осмотрены по 5-6 раз[5].
Ситуацией не преминули воспользоваться преступные элементы. Под видом поиска укрывающихся «врагов» они грабили квартиры и магазины. Места жительства офицеров и лиц, сочувствовавших и помогавших «контрреволюции», были известны заранее. В захваченном штабе Крымских войск нашли списки. По ним и отыскивали несчастных.Руководствуясь «революционным чутьем», красногвардейцы и матросы совершали расправы по собственному «почину», без оглядки на распоряжения и приказы ревкомов.
«Расстреливали как куропаток на каждом шагу, на улицах в одиночку, в квартирах, расстреливали и группами в поле за вокзалом. <…> На одной из главных улиц перед идущим офицером была брошена бомба, которая разорвала его на клочки»[6].
«Офицеры держали себя с достоинством. Придя в квартиру одного летчика, матросы заявили: «Отдавай оружие» — «Вот вам, негодяи, оружие» — ответил летчик, стреляя в них, а затем и в себя. «Снимайте, сволочи, погоны», окружили двух офицеров матросы на улице. Те отказались. Два выстрела и несчастных не стало. «Ну, теперь прямо в рай» — сказал один матрос, снимая сапоги с убитых. Обыскали, разорвали документы и как ни в чем ни бывало, пошли дальше. Откуда ни возьмись, явился санитар. Несчастных положили на носилки, прикрыли и понесли. И только видно было, как у одного болтались ноги в синих носках. Некоторых отводили в тюрьму и потом ночью расстреливали»[7].
Среди убитых в ходе террора был известный благотворитель и домовладелец Франц Шнейдер. 16 января расстреляны воинский начальник Шварцман (его убили на улице по дороге в тюрьму) и его делопроизводитель. Бессудные расправы продолжились и в последующие дни. Так, 16 или 17 января были арестованы отставной полковник Осинев (?) и двое прапорщиков. По дороге в военно-революционный штаб их поставили возле стены одного из домов напротив Петропавловской церкви и расстреляли. Осинев был убит наповал, прапорщики ранены. Спустя какое-то время их подобрали и перенесли в лазарет[8]. Расправы над офицерами также происходили в местности, называемой Дубки. Здесь были зарублены шашками прапорщик Панченко и еще один офицер.
Впоследствии тела убитых выдали родственникам для погребения. При движении траурной процессии матросы поначалу выражали сочувствие и снимали головные уборы, но после того, как узнали, кого провожают в последний путь, впали в неистовство. Перед похоронами Панченко один из большевиков явился к настоятелю Старо-Кладбищенской церкви Константину Колчанову и заявил ему, что если тело офицера будет погребено без разрешения комитета, или будет оставлено в церкви на ночь – священник будет убит, церковь разграблена, а останки усопшего выброшены из могилы. Поэтому родственникам погибшего более ничего не оставалось, как подчиниться. Лишь после получения разрешения труп Панченко был предан земле[9].
С особенно тщательным рвением разыскивались и уничтожались чины Крымского штаба. Вечером 14 января 1918 г. в районе Карасубазара (ныне – Белогорск) отрядом красногвардейцев захвачены и немедленно расстреляны 50 офицеров, в том числе полковник А. Макухин.
Чтобы стать жертвой расправы, часто достаточно было одного подозрения. Так, 70-летнего старика Масловского красногвардейцы зверски убили на Севастопольском шоссе только за то, что приняли за бомбу, найденную у него после шестнадцати обысков металлическую пепельницу в форме полушария[10]. Нескольких гимназистов арестовали по подозрению в службе в офицерском отряде и помощи «эскадронцам» (крымскотатарским вооруженным формированиям, которые находились в подчинении Крымского штаба и воевали против большевиков)[11].
Арестам подвергались и те офицеры, которые не принимали участия в Гражданской войне. И даже если их приговаривали к тюремному заключению, по пути в темницу они могли быть остановлены и расстреляны другим красногвардейским или матросским отрядом. Показательный эпизод приводит в своих воспоминаниях митрополит Вениамин (Федченков). Выпускник Таврической духовной семинарии, Митя Мокиенко, в годы Первой мировой войны пошел в армию. Революционный развал застал его в чине офицера на Румынском фронте. Вернувшись в Крым, он вместе с братом-семинаристом был арестован.
«Привели их в местный исполком, помещавшийся в гостинице на Пушкинской улице. Народу всякого – множество: солдаты, рабочие, матросы…Гвалт…был поставлен вопрос: что делать с арестованными? Кто кричит: расстрелять, другие – в тюрьму до суда. Поставили на голосование, большинство оказалось за второе предложение. Написали братьям какую-то бумажку и в сопровождении двух-трех солдат с ружьями отправили в местную тюрьму, недалеко от вокзала. Но через два-три квартала им повстречалась группа матросов, вооруженных обычно до зубов (их называли тогда «краса и гордость революции»).
— Кого ведете? – спрашивают они конвойных.
— Офицеров.
— Куда?
— В тюрьму.
— Какая тут тюрьма им? Расстрелять немедля!
Солдаты показывают записку от исполкома…
— Никаких исполкомов… Расстрелять, и кончено…»[12]
Арестованных поставили к стенке, вокруг собралась толпа зевак. Матросы велели конвойным отойти на несколько шагов и расстрелять. Но в это время неподалеку завязалась перестрелка, и черноморцы мгновенно поспешили туда. Солдаты же быстро схватили приговоренных и побежали с ними в тюрьму.
В дальнейшем Мокиенко с братом освободили, но вскоре в городе опять начались массовые аресты и расстрелы. Воспользовавшись фальшивым документом, который молодому человеку выдал архиепископ Симферопольский Димитрий (Абашидзе), он уехал из города[13].
Некоторые убийства совершались с особой жесткостью. Современник, филолог и русист Виктор Филоненко записал в своем дневнике:
«Какая-то старушка рассказывает <…>, как убили богача Булатова: «Вывели его, милые, за вокзал и девять пуль в живот всадили. А он все стонет, не падает. Тогда один матрос подошел, в сердце штык ему воткнул и повернул его там. Тогда он упал. В рот ему сахару набили. Сказывают, сто тысяч давал, чтобы не убивали. А матросы и говорят: «нам не нужно твоих денег, а казны возьмем, сколько захотим»[14].
Революционный террор в Симферополе зимой 1918 г. носил в себе черты не только «классовой», но и личной мести. Многие горожане стали жертвами доносов и оговоров.
«Прежнее «слово и дело» было в большом ходу. Прислуга особенно старалась в этом отношении: указывала квартиры, где не только жили офицеры, но куда и к кому даже они ходили в гости. Масса была оговор<ена><…>. И таких «оговоренных» допрашивали, арестовывали, сажали в тюрьму. Короче говоря, полная свобода была самому небывалому в истории произволу. Одного студента расстреляли за то, что какому-то солдату показалось, что он переодетый офицер. Гимназиста-инвалида арестовали за то, что уличный мальчишка указал на него матросам, как на контрреволюционера» [15].
Всего, по данным советского автора Виктора Баранченко, в административном центре губернии «было убито не менее семисот офицеров»[16]. Аналогичную цифру – 700 человек – называет и один из активных участников установления советской власти в Крыму, член севастопольской большевистской партийной организации Алексей Платонов[17].
Не всех арестованных убивали сразу. Многих из них сперва заключили в городскую тюрьму, откуда затем выводили на расстрел.«В Симферополе, — писал в своих воспоминаниях князь Владимир Оболенский, — тюрьма была переполнена и ежедневно из нее вызывали людей на расстрел пачками»[18].
Свидетельство мемуариста дополняют материалы расследования. Согласно протоколам Особой комиссии, условия содержания в тюрьме были крайне тяжелыми. Узники страдали от холода и голода. Из еды давали лишь воду и фунт хлеба. Случаи освобождения были редки[19]. Установить, сколько людей содержалось в тюрьме в тот период, не представляется возможным, так как с 19 января 1918 г. и до прихода немцев в мае того же года книга приема перестала вестись. Таким образом, единственным источником информации о количестве заключенных были дела арестованных. Основанием для заключения под стражу был приговор революционного трибунала. Людей привлекали к ответственности за любые проявления нелояльного отношения к новой власти либо за участие в подавлении революционных выступлений в начале ХХ в. По состоянию на 12 февраля 1918 г. в тюрьме содержались 96 человек, из них только 19 были арестованы за уголовные преступления, 8 – за «контрреволюционную деятельность», прочие содержались под стражей без предъявления обвинения[20].
Преследовались и уничтожались и политические противники крайне левых, не принимавшие прямого участия в вооруженной борьбе. Как свидетельствует участник революционных событий в Симферополе, большевик Выговский, «ряд<активистов антибольшевистских>организаций в тюрьму посадили… Мы многих расстреляли, их и ихние организации разгромили»[21]. Под репрессии попали служащие органов государственной власти – как существовавших в дофевральский период, так и относительно новых. 17 января 1918 г. Симферопольский ВРК издал декрет, согласно которому татарский Курултай и Совет народных представителей объявлялись распущенными. Вне закона оказались все «контрреволюционные» партии, их печатные органы были закрыты.
Ликвидировалась прежняя система органов власти. Так, 21 января 1918 г. Симферопольский Совет объявил городскую думу «анахронизмом» и распустил ее. Декретом от 25 февраля Симферопольский ВРК отменил уездное земское собрание и управу как мешающие «на пути широких социальных реформ для устройства новой социалистической жизни города». До конца марта все органы земского самоуправления прекратили существование[22].
Красноречивые показания деникинской Особой комиссии дал председатель уездной земской управы, Мустафа Кипчакский. По его свидетельству, в феврале 1918 г. в управу пришли неизвестные лица во главе с крестьянином Тарасом Скрыпкой, человеком с уголовным прошлым, который в ультимативной форме потребовал от членов управы немедленно сложить свои полномочия, угрожая в случае неповиновения репрессиями. Когда те попытались протестовать, говоря, что для этого необходимо соблюсти формальную процедуру роспуска, им ответили, что распоряжения новой власти не подлежат обсуждению. В итоге члены управы вынуждены были подчиниться.
Став новым председателем управы, Скрыпка и другие сторонники «диктатуры пролетариата» назначили себе большие оклады, при этом фактически запустили работу во всех ключевых сферах (медицине, образовании, дорожном хозяйстве). Вся их деятельность свелась исключительно к личному обогащению. Такая же участь постигла и волостное земство, а также земские учреждения по всему Крыму[23]. Объявленная национализация помещичьей земли на практике обернулась тотальным разграблением землевладений и их материальной базы[24].
Местная власть практически целиком состояла из маргиналов и лиц с темным прошлым. Коменданта Симферополя Чистякова допрошенные характеризуют как авантюриста и взяточника. Отрицательные оценки даны и другим местным советским руководителям. Это были либо малограмотные рабочие, либо недоучившиеся гимназисты. Образованных людей среди них практически не было.
«Тут были и коммивояжеры, — делился своими наблюдениями один из свидетелей, — и приказчики, портные, рабочие из сапожников, жестяников и т.д. С соответствующим образовательным цензом, все они были глубоко безнравственны во всех отношениях и не чисты на руку. Хамство проявлялось во всех областях при деятельности, в которой они не считались ни с Общероссийскими законами или своими декретами, ни со здравым смыслом, или логикой, ни с совестью или сердцем. Это были обманщики в самом широком смысле, обманщики даже по отношению к пролетариату, которому они не стесняясь сообщали самую наглую ложь»[25].
Новые власти закрыли все местные газеты, ликвидировали судебные учреждения, провели национализацию банков, домовладений, аптек, гостиниц, бань, частных учебных заведений. В собственность государства передали общественный транспорт, все фабрики и заводы, все земли. Помимо этого было национализировано все церковное имущество.
Несмотря на выраженное враждебное отношение к Русской Православной Церкви и ее служителям, священников в период «первого крымского большевизма» старались не трогать, опасаясь возмущения верующих. Вместе с тем, жилища церковнослужителей подверглись многочисленным обыскам и грабежам. Обыски проводились ночью, при этом обыскивающие вели себя агрессивно и нагло.
14 января 1918 г., матросами был произведен обыск у архиепископа Симферопольского Димитрия: «Все взламывалось и вскрывалось. В архиерейскую церковь бандиты шли с папиросами в зубах, в шапках, штыком прокололи жертвенник и престол. В храме духовного училища взломали жертвенник… Епархиальный свечной завод был разгромлен, вино выпито и вылито. Всего убытка причинено более чем на миллион рублей»[26]
На протяжении всего пребывания города под властью большевиков священники опасались за свою жизнь, и старались не появляться на улицах. Допрошенный в качестве свидетеля настоятель больничной церкви Николай Мезенцев показал, что был однажды остановлен на улице и подвергнут обыску. Он же свидетельствовал о том, что представители новой власти нередко приходили в храм пьяные, в шапках и с папиросами. Был и такой случай: в момент совершения на кладбище чина отпевания одного из убитых в ходе террора, вооруженные рабочие ради развлечения открыли огонь в сторону причта[27].
Осквернению подверглись и мусульманские культовые учреждения. При взятии города большевики разломали решетку в военной мечети Крымского конного полка, забрались внутрь, вынесли оттуда персидские ковры (один из них был подарен императрицей Александрой Федоровной) и разорвали их. Также злоумышленники похитили кружку с пожертвованиями и повредили 12 Коранов[28].
Новая волна насилия захлестнула город в феврале 1918 г. К концу января сторонники «углубления революции» составили обширные списки лиц, подлежащих расстрелу. В дальнейшем занесенных в эти списки стали арестовывать и с начиная с 12 февраля расстреливать. Местом массовых казней стал район городского кладбища. Группы лиц, намеченных к уничтожению, подводили к стене некрополя и расстреливали. Там же зарывали тела. Точная цифра погибших неизвестна. Впоследствии жительницы слободок и города на свой страх и риск провели раскопки могил и выкопали 12, а затем еще 8 трупов расстрелянных офицеров. Некоторые тела после казни бросали в пустые ямы, но оставляли без погребения.
При этом расстрел не являлся единственным способом умерщвления. Многие были зарублены, и когда их хоронили, отрубленные руки и другие части тел производили на людей ужасное впечатление, из-за чего многие потом не могли спать в течение нескольких ночей.
Допрошенный в качестве свидетеля священник Александр Эндека (будущий лидер обновленцев в Крыму) показал, что с января по май 1918 г. он отпевал нескольких лиц, убитых большевиками. Среди них – поручик Дмитрий Еременко (летчик, убит в городе при выходе из бани 13 января), подполковник 32-го пехотного запасного полка Александр Дмитренко (убит 15 января при выходе из Петроградской гостиницы). Еременко был расстрелян, а Дмитренко исколот штыками, так что на нем не было живого места. Также Эндека упоминает о двух неопознанных офицерах и сестре милосердия, расстрелянных и также исколотых штыками. Их тела 19 января матросы привезли в мертвецкий покой, бросили и уехали[29].
Репрессии затронули представителей разных национальностей и вероисповеданий. В материалах Особой комиссии приведены показания муллы Сеида Мемета Эфенди, в которых он называет перечень имен военнослужащих из числа мусульман, служивших в крымскотатарских национальных частях и убитых большевиками. И здесь зафиксированы страшные подробности расправ, и дано описание состояния тел погибших. Многие из них имели штыковые и рубленные раны, у некоторых отрезаны уши, выколоты глаза, раздроблены черепа. Перед казнью обреченных грабили, так как практически все, кого Сеид Мемет проводил в последний путь, были в нижнем белье, либо раздеты догола. Перед совершением погребального обряда мулле также приходилось испрашивать разрешения властей. Удовлетворив его просьбу, те даже выделили ему охрану из 4 матросов. По дороге на кладбище матросы стали издеваться над священнослужителем и его верой, ввиду чего он вынужден был отказаться от таких телохранителей[30].
Согласно показаниям настоятеля Симферопольской караимской кенассы, Исаака Ормели, одной из жертв террора был офицер-караим по фамилии Робачевский. Его похоронили в братской могиле. Также матросами были убиты супруги Вениамин и Фумла Кальфа, очень богатые люди. Расправа произошла в их имении при станции Альма неподалеку от Бахчисарая[31].
Особой жестокостью к «врагам революции» «прославился» отряд моряков под командованием Семена Шмакова. Заняв лучшее помещение в Симферополе — «Европейскую гостиницу», шмаковцы занялись обысками под предлогом взимания контрибуции с «буржуазии», открытым грабежом, развратом и кутежами[32]. Со матросами быстро нашли общий язык местные люмпены. Совместно они начали расхищение имущества с имевшихся в симферопольском гарнизоне интендантских складов. Как вынужден был признать возглавивший Симферопольский ВРК большевик Жан Миллер, у местной власти «не было силы навести там порядок, потому что он (отряд Шмакова – Д.С.) был сильнее нас, и мы были вынуждены апеллировать к Севастополю. Этот отряд и делал беспорядок: самочинные обыски, самочинные расстрелы»[33].
Именно Шмаков ответственен за самосуды, произошедшие в городе в конце февраля 1918 г. Так, в ночь на 24 февраля 1918 г. матросы из его отряда провели аресты и расстреляли 170 «буржуев»[34]. Были расстреляны как «наиболее известные своей контрреволюционной деятельностью», так и своевременно не внесшие контрибуцию лица.
О том, какое впечатление производили расправы на рядовых горожан, свидетельствуют строки дневника В.Филоненко:
«…Знакомые встречаются, обнимаются, словно после долгой разлуки. «Живы?» — «Пока жив, а что вечером будет неизвестно». – «А «N» жив?» — «Нет, убит». – «А почему скрыли, в субботу еще ушел из дома и до сих пор нет». Говорили шепотом, боясь бать услышанными, всюду шныряющими, матросами.
У многих лица заплаканы. Отыскивают родных, знакомых. Где отыскать? Правда, убитые одни лежат тут же, на улицах, где их застала смерть, другие в мертвецких при больницах, хоронить еще не позволяют, но, во-первых, они обезображены так, что их и не узнать, а во-вторых, и признать опасно»[35].
Это – январь 1918 г. Ту же картину можно было увидеть и в феврале. Интересные воспоминания оставил поручик Евгений Гагарин. Приехав в Крым на лечение в конце сентября 1917 г., находясь в лазарете, после установления в Симферополе власти большевиков, офицер остался в живых лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств. В эмиграции он написал краткие воспоминания, в которых описал происходившее в городе в те страшные месяцы.
Заняв Симферополь, красногвардейцы и матросы не преминули наведаться в лазарет. Искали оружие, раненых.
«Двери лазарета не закрывались, ибо одни приходили, а другие уходили, уверяя, что им достоверно известно, что здесь хранится оружие и есть пулемет. День и ночь продолжалась эта пытка. Обходили все палаты, срывали одеяла с лежавших в постели, искали в подвале, на чердаке, но, слава Богу, ничего не нашли.
<…> Настроение в городе было тревожное. Аресты и расстрелы не прекращались, была полная неуверенность, что будет с нами. <…> Так проходили ужасные дни в постоянной тревоге и неизвестности: что будет с нами завтра»[36].
Настал конец февраля.
«Каждую ночь мы ожидали, что нас арестуют и, конечно, ликвидируют. Один из матросов <…> умолял сестру устроить, чтобы медицинская комиссия его освободила от военной службы, ибо он не может больше. «Довольно крови! – говорил он. – Я пошел на фронт специально для углубления революции, но больше не могу».
<…> Всю ночь мимо наших окон шныряли автомобили, каждый гудок машины вызывал ужас в наших сердцах»[37].
В одну из февральских ночей автор воспоминаний увидел в окно грузовик, полный трупов расстрелянных офицеров[38]. Таков был результат устроенной матросами «варфоломеевской ночи».
В этой атмосфере насилия и убийств особенно удивительны случаи, когда уже расстрелянные сказочным образом оставались в живых. Митрополит Вениамин Федченков приводит в своих воспоминаниях один такой случай. Офицер Владимир Эммануэль был арестован, посажен в тюрьму, а ночью вместе с другими приговоренными выведен на расстрел.
«За железной дорогой, недалеко от епархиального свечного завода была вырыта большая канава, на краю которой происходили расстрелы. На этот раз назначили для совершения казни девять солдат. Раздался залп, другой. Все попадали. Владимир, видя, что он лишь ранен, падая, прикрыл голову рукой в надежде, что если будут еще добивать, то не в голову, не так опасно. Так человек инстинктивно хватается за соломинку, желая жить… Должно быть, на сей раз этого не случилось. Солдаты ушли. Это было под новый, 1918 год. В Крыму иногда и зимой тепло. Когда все стихло, он поднимает голову и к удивлению своему замечает, что поднимается другой, тоже неубитый. Что делать? Решили ползти в разные стороны, вдвоем заметнее. Было темно. Вдруг Владимир видит впереди себя человека с ружьем. Ох, дозор! Бросился на землю, но тот уже заметил его и потребовал встать… Ну, значит, вторая смерть.
— Кто?
— Офицер.
И он открыто сознался про себя — все равно конец. Но вдруг слышит успокоительные слова:
— Я рабочий. Ищу своего брата, тоже из офицеров. Не убит ли он ныне?
— Как фамилия?
— Такая-то…
— Нет, его не было с нами.
Что делать дальше? Рабочий жил далеко, в Татарской слободке, совершенно противоположной от станции: туда не донести и не довести тяжелораненого, и опасно. Вспомнил, что тут неподалеку живет знакомый мастеровой. К нему ночью и привел он нового знакомца. Там обмыли, перевязали его как могли.
Но беда не приходит одна — по пословице. Где-то рядом или жили, или пировали матросы. Заметив ночью огонь, заподозрили и вошли.
Расспросили: кто, что? И опять смерть на пороге. Матросы, может быть, добродушные от вина, затеяли еще спор с раненым, что вот ученые прежде нуждались в народе, а теперь бросили его. Однако нужно было опасаться недоброго конца. Тогда хозяин дома идет на станцию к коменданту и просит оградить от дебоша матросов его знакомого. Тот, может быть, спросонья, не разобрав дела, дает какую-то записку об удалении буянов, хлопает по ней красной печатью и для верности посылает с мастеровым еще дежурного солдата. Матросы подчинились, ушли. Пришедший провожатый спрашивает: «Как фамилия?» — «Эммануэль». – «Что? Как?» – «Эммануэль!»[39]
Оказалось, что накануне этот матрос посещал с обыском дом, где жила семья офицера, и говорил с его матерью, которая, почувствовав к нему какое-то доверие, горячо попросила помочь ее сыновьям. Потрясенный совпадением, матрос сам нашел извозчика и отвез раненого в больницу[40].
Обрастая множеством самых невероятных подробностей, вести о событиях в Симферополе становились известны далеко за пределами Крыма.
Опираясь на свидетельство одного из лидеров партии народных социалистов, Венедикта Мякотина, супруга историка Сергея Мельгунова, Прасковья Мельгунова-Степанова, 4 февраля 1918 г. записала в своем дневнике:
«Матросы в количестве 7000 двинулись на Симферополь, и все разбежались – там убито до 300 офицеров, а матросов только шесть человек. <…>
…убили, например, в Симферополе местного фабриканта <…> как сочувствующего реакции и готового содействовать ей. Убиты таким образом Шнейдер, местный благотворитель, устроивший массу школ, один спекулянт и др.»[41]
8 февраля 1918 г. писатель и поэт Иван Бунин записал в своем дневнике: «…Приехал Дерман, критик, — бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо по колено в крови». Какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке»[42].
Как видно из вышеприведенных примеров, даже преувеличенные, эти свидетельства довольно достоверно отражали происходившее.
Насилие, грабежи и убийства в Симферополе продолжались вплоть до падения советской власти весной 1918 г.
В следующий раз красные заняли город 11 апреля 1919 г.В отличие от предшествующего периода они пришли «с готовой организацией». Вместе с войсками «прибыли военно-революционный штаб, комиссары, коменданты, чрезвычайки, следователи и сотрудники чрезвычаек и т.п. лица»[43]. Находясь в городе, они пополнили свои учреждения местными жителями.
Приход большевиков жители города поначалу встретили с воодушевлением и надеждой. Но вскоре были разочарованы.
Сразу «на головы обывателей посыпались всевозможные декреты»: о национализации земли, банков, аптек, фабрик, заводов, частных школ, учете мебели, музыкальных инструментов, нот, пишущих и швейных машин и конфискации всего имущества лиц, которые отсутствовали в городе и «не явились сюда в течение 10 дней». Одновременно начались обыски оружия, «сопровождавшиеся не всегда, но во многих случаях – грабежами», аресты и реквизиции[44].
По мнению армейского руководства, гражданская власть и население должны делать все для удовлетворения повседневных нужд армии: ее нужно кормить, одевать, лечить, снабжать деньгами, рыть окопы.
Имущие горожане были обложены контрибуцией, за неуплату которой сажали в тюрьму. Оставленные квартиры реквизировались для нужд советских учреждений[45].
Широкое распространение получила принудительная мобилизация «буржуазии», вне зависимости от состояния здоровья, пола и возраста, на проведение работ «для помощи фронту»: строительство земляных укреплений, рытье траншей и окопов. Для поддержания «трудовой дисциплины» при этом нередко применялись телесные наказания. С целью заполучить в свое распоряжение и в необходимом количестве рабочие руки, власти нередко устраивали облавы. Поэтому, чтобы попасть в число отбывающих трудовую повинность, достаточно было просто случайно оказаться в неподходящем месте и в неподходящее время.
Первоначально «буржуев» ловили на улицах, однако затем стали собирать по квартирам. С этой целью домовые комитеты должны были передавать властям списки лиц в возрасте от 18 до 45 лет, отнесенных к непролетарским слоям населения. На практике, однако, в числе мобилизованных на принудительные работы оказались даже 80-летние старики. При этом известен случай, когда за невыполнение поставленной перед ними задачи пьяный матрос избил двоих пожилых братьев нагайкой[46]. Другой симферополец, занятый на работах по доставке артиллерийского орудия из казарм на вокзал, был избит нагайкой за то, что не смог поднять ящик с патронами[47].
Вопиющий случай произошел в первый день Пасхи, когда большую группу женщин и девушек из числа интеллигенции отправили на работы по уборке казарм. При этом им не разрешили переодеться, заставив работать в пасхальных нарядах, а затем, когда одна из женщин вымыла пол, «кто-то из большевиков намеренно загадил его, совершив на полу естественное отправление, после чего заставил ее руками выбросить экскременты, несмотря на ее просьбы позволить ей взять лопату»[48].
Девушки и молодые женщины также становились объектом сексуальных домогательств. Наравне с мужчинами их также заставляли трудиться на тяжелых работах, например, погрузке вагонов[49].
Приведенные выше нелицеприятные факты дополняют показания 19-летней студентки юридического факультета Таврического университета Татьяны Романовской:
«Во время последнего пребывания большевиков в гор. Симферополе ими были установлены принудительные работы для всех не состоящих в профессиональных союзах, для женщин в возрасте от 18 до 40 лет, для женщин в возрасте от 18 до 40 лет, возраст мужчин я не помню, причем женщины, имевшие детей моложе трехлетнего возраста, освобождались. В первый день праздника Св. Пасхи – 7-го апреля 1919 года (по новому стилю – 20 апреля – Д.С.), только я кончила разговляться со своими двумя подругами Софьей Аркадьевной Хохловкиной и Викторией Яковлевной Сенченко, раздался стук в дверь и появилось три милиционера, которые потребовали, чтобы мы все три отправились в 5-й Комиссариат, помещавшийся во дворе при гостинице «Астория» около вокзала железной дороги, причем взяли бы с собой половые ведра и тряпки. Пока мы разыскивали ведра, которых у нас не было, милиционеры ругались, торопили нас и не дали нам даже возможности переодеться, т<ак>. что мы были вынуждены отправиться в праздничных платьях. Это было 9 часов утра. Дорогой милиционеры должны были заходить в другие дома, чтобы привлекать других на принудительные работы и отправили нас одних. Когда мы подошли к гостинице «Астория» мы зашли в нее, чтобы узнать куда идти дальше. Здесь нас встретил какой-то пьяный солдат, который заявил, что мы должны остаться в помещении «Астории» для производства работ и приказал нам пройти в соседнюю комнату, где и обождать. В комнате стоял стол, на котором были остатки от закусок, бутылки из-под вина и т<ому>.под<обные> следы пиршества.
Когда моя подруга хотела пройти в комнату, солдат вынул ключ из двери и мы, боясь, что нас запру, заявили, что подождем во дворе. Там мы прождали часа два, а затем нам приказали вымыть пол в комнате, где нас принимал солдат. Из эпизодов, которые с нами произошли в то время, когда мы находились на работе могу рассказать следующее: по приходе нашем в «Асторию» моя подруга Хохловкина заявила солдату, что она знает, что ходить на работы принуждают евреи. Находившийся тут же второй человек, по-видимому помощник комиссара – еврей по национальности (солдат был комиссаром), раскричался на нее и в конце концов заявил, что Хохловкина будет арестована, если скажет хоть одно слово против евреев. Далее, во время моего разговора с солдатом, когда я протестовала против принуждения к работам и удивлялась почему нам не предоставляют места в канцелярии, солдат приблизился ко мне, а к Хохловкиной какой-то матрос и оба они обещали предоставить нам места в канцелярии, если мы выпьем с ними вина и будем затем некоторое время встречаться с ними. Вообще нужно сказать, что с молодыми женщинами они были любезны, назначали их на более легкие работы, а над пожилыми они издевались страшно, хотя и не были. Особенно издевались они над полными и старыми женщинами, назначая их в то же время на более тяжелые работы.
Когда мы пришли в помещение «Астории» мы не знали, кто там находится, но впоследствии узнали, что там помещается какое-то военное учреждение, кажется подводное плавание. До 5-го Комиссариата мы так в тот раз и не дошли и только видели как оттуда повели человек двадцать мужчин и женщин – стариков и молодых, которых отправили на железную дорогу мыть вагоны. После этого случая меня привлекли тем же порядком через милицию к принудительным работам еще пять раз, но новых издевательств не производили»[50].
В борьбе с произволом военных гражданские власти были бессильны, и только фиксировали характерные проявления, информируя о них центральные органы.
«Войсковые части прямо на вокзале забирали прибывающие хлеб, сахар и бензин, зачастую предназначенные для города», — докладывал заведующий финансовым отделом совнархоза Абрам Галлоп на заседании Симферопольского Ревкома[51].
«В Симферополе, — сообщал в ЦК РКП (б) Украины член крымского обкома Моисей Шустер, — одним красноармейским отрядом был окружен один из небогатых районов города (преимущественно еврейский), красноармейцы забирали все что им понравилось»[52].
В свою очередь, советская пресса предлагала обывателям набраться терпения.
«Нам некогда думать о мирном строительстве, — сообщала своим читателям 20 мая 1919 г. газета «Таврический коммунист». — Все силы сверхчеловечно напряжены для войны…»[53]
Понятно, что в такой обстановке ни о какой созидательной работе, налаживании производства, повышении качества жизни не могло быть и речи.
В занятых крымских городах создавались территориальные подразделения Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Для ее организации на полуостров прибыл инструктор Всеукраинской чрезвычайной комиссии И.В.Дурандин. Вскоре была образована Таврическая губ. ЧК, которая работала в Симферополе. Кроме нее, на территории полуострова действовали 6 прифронтовых ЧК и несколько особых отделов[54]. А уже 14 апреля (т.е. спустя всего 3 дня после вступления красных войск в Симферополь) была образована Крымская республиканская комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем на полуострове (КрымЧК)[55]. Одновременно были созданы городские и уездные ЧК. Как и в других регионах страны, контролируемых большевиками, в задачи крымских чекистов входила ликвидация «контрреволюционных заговоров», они должны были обеспечить выполнение распоряжений советских органов власти, «не останавливаясь перед применением насилия»[56].
15 апреля 1919 г. на заседании коллегии Таврической губ. ЧК крымские чекисты распределили между собой основные обязанности, а также обратились к Симферопольскому ревкому с просьбой выдать в распоряжение ЧК 20 тыс. рублей для расходов на укомплектование штата. Тогда же было принято решение о формировании при ЧК отряда в 60 человек, набранных только по рекомендации профессиональных и политических организаций, а также членов коллегии ЧК [57].
Последующие заседания коллегии также были посвящены в основном кадровым вопросам. Руководство и состав комиссии неоднократно менялись. Так, на проведенных шести заседаниях (с 14 по 30 апреля 1919 г.) председатели ЧК переизбирались четыре раза. Менялись и заведующие отделами[58].
На первых порах местную ЧК (ставшую впоследствии губернской) возглавил вышеупомянутый И. Дурандин, а вскоре председателем утвердили Купайгородского[59].
22 мая 1919 г. Таврическая губ. ЧК была упразднена и влита в Особый отдел (ОО) при Реввоенсовете (РВС) Крымской Красной армии. Фактически ликвидация губернской ЧК затянулась до начала июня 1919 г. С 22 мая 1919 г. ОО при РВС Крымской Красной армии стал республиканским органом по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности[60].
Арестованных по обвинению в контрреволюции заключали под стражу в Особом отделе, который «наводил на всех ужас»[61]. Местом заключения стали подвальные помещения домов №2, принадлежащего Стацевичу, и дома № 9, принадлежащего Безчастному, расположенные по улице Суворовской[62].После того как красные оставили город, 17 июня 1919 г. члены деникинской Особой комиссии осуществили визуальный осмотр подвалов, о чем составили протокол.
Подвал дома Стацевича был «расположен по длине всего дома, выходящего фасадом на улицу. Вход в подвал со двора по каменной лестнице, в начале которой деревянные двери, а в конце – полустеклянные. Глубина подвала около 1 ½ саженей, длина 6 саженей и ширина, одной половины подвала 3 сажени и другой 5 ½ саженей. На высоте сажени от уровня бетонного пола галерея 5 окон длиною 5 четвертей арш<ин> и шириной 8 вершков каждое, причем три из них выходят на улицу, и два во двор. Окна расположены (над самой землей) на уровне земли. В подвале имеются два фундамента для печей и два стояка, поддерживающих пол квартиры.
На полу находятся две кучи мусора из остатков соломы, сенной трухи, обрывков бумаг и книжек, там же находятся несколько старых ящиков, два матраца и каменные плиты, последние разложены вдоль стен»[63].
Подвал в доме № 9 располагался «под холодным дровяным сараем, расположенным под одной крышей с кухней дома, которая примыкает непосредственно к самому дому. Вход в подвал находится в сарае, где имеется люк с подъемной крышкой и ведущая в подвал узкая и крутая деревянная лестница. Длина подвала 7 ½ аршин, ширина 4 ½ аршина и глубина от уровня пола сарая 1 сажень. Пол земляной. На уровне земли в подвале имеется одно окно длиной 5 четвертей и высотою 8 вершков. Воздух в подвале холодный сырой и затхлый. По стенам подвала видны следы сырости. На полу сарая валяются остатки досок и кадушек и разного мусора. По своему устройству подвал может быть назван ледником, хотя помещения для льда в нем и нет»[64].
Заключенные в подвал люди спали на полу «без всяких приспособлений для спанья, или сидя на ступенях». Спать большинству приходилось сидя. Питание арестованных состояло из чая, который давали утром и вечером, и фунта хлеба в день на человека[65]. Сидя в подвале, люди подвергались издевательствам. Кроме того, пребывание в столь неблагоприятных условиях отрицательно сказывалось на их самочувствии. Так, один из арестантов, товарищ прокурора Туримов после освобождения стал «совершенно болен, т.к. туберкулез у него значительно обострился»[66].
Многие из арестованных проводили в заточении по 2-3 недели без допроса и предъявления к ним обвинения. Трое полковников, которых оправдал военно-революционный трибунал, после этого просидели в подвале еще месяц.
Неудивительно, что после перевода арестантов в тюрьму последняя «казалась им раем»[67].
В период своего пребывания в городе красные арестовали нескольких православных священников – Сердобольского, Назаревского, Николая Мезенцева и неназванного симферопольского архимандрита. За исключением Мезенцева, «который был арестован безо всякой причины», батюшек арестовали «за проповеди». Впрочем, попытка ареста Сердобольского потерпела неудачу, встретив отпор со стороны прихожан[68].
Дела арестованных по обвинению в контрреволюционной деятельности велись двумя судебно-следственными комиссиями. Одна функционировала при Особом отделе, вторая – при трибунале. Если первая не находила возможности освободить арестованных без суда, их дела передавались во вторую комиссию.
Как показал допрошенный в качестве свидетеля присяжный поверенный Георгий Доценко, во главе отдела стоял «какой-то Давыдов (фамилия вымышлена), как говорили, бывший каторжанин; в числе же сотрудников Давыдова был еврей-бандит Зборский, который был приговорен к расстрелу за бандитизм самими же большевиками, но за выдачу 400 бандитов, из коих 200 были расстреляны, помилованный. Следователями были Егоров – взяточник, занимавшийся незаконными реквизициями при обысках и самими же большевиками посаженный за это в тюрьму, но ввиду желания отправиться на фронт, освобожденный оттуда; еврей студент Горский; матрос Пархоменко, человек малограмотный и несколько других лиц. Бывшие же до отдела чрезвычайки состояли главным образом из евреев»[69].
Далее тот же свидетель показал, что многих арестованных освобождали за взятки[70]. Таким образом, аресты были доходным и прибыльным делом.
Расстрелов в городе в этот период «было, по-видимому, меньше». Так, согласно показаниям священника НовокладбищенскойВсехсвятской церкви Стефана Шпаковского, в метрической книге церкви значатся имена двух убитых: супружеской четы Меченко, которые были убиты матросами за караимским кладбищем. По той же метрике значатся убитыми еще несколько человек, но обстоятельства их гибели неизвестны[71].
В целом насилие и произвол в Симферополе в рассматриваемый период проявлялись преимущественно в виде реквизиций и обысков, которые производили военные власти.
Память о том, что в 1919 г. большевики «почти никого не казнили»[72] подвигнет заметную часть симферопольцев, надеясь на милосердие победителей, остаться в Крыму накануне окончательного установления советской власти в ноябре 1920 г. Последующие события наглядно продемонстрировали всю тщетность этих надежд.
Третья волна террора, которая обрушилась на Симферополь в начале 1920-х гг., была наиболее страшной.
13 ноября 1920 г. в город вошли подразделения войск красного Южного фронта (51-й стрелковой дивизии 6-й армии, 4-й кавалерийской дивизии Первой Конной армии, Второй Конной армии)[73], которые также не преминули «отпраздновать» свой триумф самочинными обысками, грабежами и реквизициями.
«Войдя в город, — вспоминал очевидец, — солдаты набрасывались на жителей, раздевали их и тут же, на улице, напяливали на себя отнятую одежду, швыряя свою изодранную солдатскую несчастному раздетому. Бывали случаи, когда один и тот же гражданин по четыре раза подвергался подобному переодеванию, так как следующий за первым солдат оказывался еще оборваннее и соблазнялся более целой одеждой своего предшественника и т.д. Кто только мог из жителей, попрятались по подвалам и укромным местам, боясь попадаться на глаза озверелым красноармейцам…»[74]
На следующий день «начался грабеж винных магазинов и повальное пьянство красных. Вина, разлитого в бутылки, не хватило, стали откупоривать бочки и пить прямо из них. Будучи уже пьяными, солдаты не могли пользоваться насосом и поэтому просто разбивали бочки. Вино лилось всюду, заливало подвалы и выливалось на улицы. В одном подвале в вине утонуло двое красноармейцев, а по Феодосийской улице от дома виноторговца Христофорова тек довольно широкий ручей смеси красного и белого вина, и проходящие по улице красноармейцы черпали из него иногда даже шапками и пили вино вместе с грязью. Командиры сами выпускали вино из бочек, чтобы скорее прекратить пьянство и восстановить какой-нибудь порядок в армии. Пьянство продолжалось целую неделю, а вместе с ним и всевозможные, часто самые невероятные насилия над жителями»[75].
Располагаясь на постой, красноармейцы заставляли хозяев «прислуживать им, убивая всю живность, как то: свиней, птицу, которых несчастные хозяева месяцами выкармливали. Из имущества все, что приходилось им по вкусу, красноармейцы забирали себе»[76]. Размещаясь в уже заселенных квартирах, старались всячески избавиться от жильцов. «Началось безжалостное изгнание стариков, женщин и детей из их квартир, часто даже ночью, когда уже грянули морозы. Изгоняемым позволялось брать с собой лишь по одной перемене белья и одежды. Ни мебели, ни посуды брать нельзя было»[77].
Анализируя причины жестокости красных на данном этапе, современники объясняли ее общей озлобленностью вследствие понесенных при штурме Перекопа тяжелых потерь. По оценке командующего Южным фронтом Михаила Фрунзе, в боях за Крым Красная армия потеряла 10 тыс. человек[78]. Нельзя игнорировать и влияние пропаганды, изображавшей Крым как оплот «эксплуататоров».
После организации власти победители продолжили грабежи и бесчинства на «законной» основе. По городу прокатилась волна реквизиций и конфискаций.
Одновременно развернулась невиданная прежде кампания массового террора, оставившая далеко позади репрессии прежних режимов (включая «первый» и «второй» большевизм). Полуостров покрылся сетью ревкомов – уездных, районных, волостных, сельских. Так, в начале 1921 г. в Симферопольском уезде действовали 168 сельских, 2 городских и 6 волостных ревкомов[79]. 16 ноября 1920 г. был образован высший чрезвычайный орган власти на полуострове — Крымский революционный комитет (Крымревком). Его возглавил венгерский коммунист Бела Кун, чье имя, наряду с именем секретаря Крымского областного партийного большевистского комитета, «профессиональной революционерки» Розалии Землячки (Самойлова, урожденная Залкинд, партийная кличка — Демон) стало одним из символов Крымской трагедии. Деятельность Крымревкома (как в период председательства Бела Куна, так и в дальнейшем) в организации массовых казней выражалась в издании приказов и распоряжений о регистрации «всех иностранно-подданных, офицеров и солдат Белой армии, чиновников военного времени, работников гражданских учреждений», «оказании помощи» сотрудникам карательных органов, сообщая «всякие сведения о скрывающихся белогвардейцах, контрреволюционерах и примазавшихся к Советской власти, пролезших в советские учреждения»[80].
Задача «зачистить» полуостров от «вражеских элементов» была возложена на «чрезвычайные органы диктатуры пролетариата» — особые отделы, военные трибуналы, ЧК. Еще до взятия полуострова создана Крымская ударная группа, начальником которой был назначен заместитель начальника Особого отдела Южного и Юго-западного фронтов Ефим Евдокимов. При Крымской ударной группе создавались чрезвычайные «тройки» особых отделов, наделенные правом вынесения смертных приговоров.
Но вначале оставшиеся на полуострове врангелевцы и гражданские лица не осознавали грозящей им смертельной опасности, восприняв известие о регистрации без особого страха. Поверив обещаниям об амнистии, данным накануне советским командованием, тысячи горожан явились на регистрационные пункты. Офицеры ― в большинстве своем одетые в военную форму вчерашние учителя, врачи и чиновники ― как и гражданские лица, искренне верили, что будут приняты на советскую службу. Иностранцы и беженцы рассчитывали, наконец, вернуться домой. И поначалу власти подпитывали эти надежды. В частности, декларировалось, что всем явившимся грозит только высылка из Крыма и распределение по специальностям; опасаться за свою жизнь могли только те офицеры, которые служили в контрразведке у белых: дела их передавались в Особый отдел[81].
17 ноября 1920 г. реввоенсоветом 6-й армии в Симферополе была создана особая военно-контрольная комиссия, от имени которой вскоре на улицах города был расклеен «Приказ №1»:
«1. Всем домовладельцам, а также квартиронанимателям, под личной ответственностью сообщать Комиссии о всех служивших в армии барона Врангеля и Деникина, уклоняющихся от регистрации.
- В случае обнаружения оружия, предметов казенного обмундирования и снаряжения виновные в несдаче будут отвечать по всем строгостям законов военно-революционного времени.
- Все лица, служившие в судебных и судебно-административных учреждениях, а также полиции, милиции, варте, государственной страже, контрразведывательных органах, с 18 по 20 ноября включительно обязаны зарегистрироваться в регистратуре Комиссии, помещающейся по Дворянской улице, в доме №25 Галкина, с 9 час. утра до 2 час. дня. Все уклоняющиеся от упомянутой в настоящем параграфе регистрации будут караться по всем строгостям законов военно-революционного времени.
- Все без исключения обязаны сообщать Комиссии об активных контрреволюционерах, виновных в выдаче коммунистов, советских работников, а также отличившихся жестокостями по отношению к трудящимся г. Симферополя. В заявлениях должны быть указаны точно фамилия и адрес подающего заявление. К лицам, подавшим ложное заявление, будет применяться высшая мера наказания – расстрел.
Комиссия считая, что без активной помощи со стороны населения гор. Симферополя не в состоянии будет справиться с задачами, возложенными на нее, обращается с призывом ко всем сознательным рабочим гор. Симферополя [помочь] в ее борьбе с контрреволюционным элементом»[82].
По свидетельству артистки ЕвфалииХатаевой, прибывшей в Крым вместе с войсками Южного фронта, после объявления регистрации оставшиеся в городе врангелевцы пошли на нее «доверчиво, многие с радостью»[83] .
«Регистрация, — писал очевидец, — продолжалась несколько дней. Всех записывали, опрашивая о времени службы, о части, в которой служили и т.п., и группами отправляли в казармы, где и содержали под стражей в продолжение недели. Обходились с арестованными очень деликатно, беспрепятственно пускали к ним на свидание родственниц, женщин и детей. Мужчин не пускали, оправдываясь тем, что под видом родственников могут уйти из казармы и арестованные. Позволялось без ограничения приносить одежду, провизию, книги. Все ждали решения о высылке, строили предположения, куда кого пошлют, и уже привыкли к своему положению; многие надеялись, что большевики смилуются и не ушлют их далеко»[84].
Все оставшиеся в Симферополе белые, которые не имели крыши над головой, первоначально содержались в казармах 51-го пехотного Литовского и Крымского конного полков. Один из впоследствии арестованных чинов Русской армии, уроженец Киева, 20-летний Николай Степаненко, свидетельствовал:
«…По приходе Советских войск нас в количестве до 15-ти тысяч назначили по казармам, я сидел в Крымских казармах до 28-го ноября, причем меня и вообще всех выпускали свободно ходить по городу до определенного времени. Я случайно желая разыскать своих товарищей или же земляков зашел к командиру Батсвязи 30 стр. дивизии, он же и комиссар тов. Кудин, который и принял меня к себе на службу и назначил в авто-роту»[85].
Многие рядовые пленные были собраны в Литовских казармах, которые вначале практически не охранялись. С питанием дело обстояло плохо. Поэтому, часть рядовых военнослужащих Русской армии, при первом удобном случае поступила в ряды красных войск, либо ушла неизвестном направлении.
Офицеры и военные чиновники, которые имели постоянное или временное жилье, были обязаны явиться в Особую фронтовую комиссию, которую организовал особый отдел 6-й армии. Комиссия располагалась в здании Симферопольского земского училища, куда врангелевские офицеры являлись на регистрацию в течение 15-20 ноября 1920 г.
Зарегистрировавшись, они уходили домой, но ближайшей ночью арестовывались, и препровождались либо в симферопольскую тюрьму, либо в казармы Крымского конного полка[86].
По свидетельству очевидца, группу арестованных численностью около 200 человек перевели из казарм в городскую тюрьму[87]. Свидания с ними были прекращены. По прошествии трех дней врангелевцев вывели из тюрьмы и по Алуштинскому шоссе доставили в усадьбу Крымтаева (ныне — район Симферопольского водохранилища), где всех перебили.
Массовые расстрелы в городестартовали 22 ноября 1920 г. По подсчетам киевского юриста Леонида Абраменко, в этот день было расстреляно 27, 117, 154 и 857 человек[88]. Но эти цифры не являются полными. Так, согласно новейшим архивным находкам, которые сделаны украинским историком Ярославом Тинченко, цифры приговоренных к расстрелу и фактически расстрелянных в этот день немного разнились.
Так, по постановлению «тройки» Особого отдела Южного фронта (председатель Манцев, члены Евдокимов, Бредис) 22 ноября 1920 г. приговорено и расстреляно 117, но из 858 приговоренных в следующей партии фактически расстреляно 841 человек[89]. Столь же разнятся цифры Особо-фронтовой комиссии: из 205 приговоренных за период 22-24 ноября 1920 г. фактически расстреляно 194 человека[90]. Из 28 приговоренных 22 ноября 1920 г. «тройкой» Особого отдела 6-й армии (председатель Быстрых, члены Брянцев и Цыбин) фактически расстреляно 27 человек[91]. Не было расхождения в цифрах у «тройки» Особого отдела Юго-Западного фронта (председатель Манцев, члены Евдокимов, Плятт). Из 156 приговоренных 22 ноября 1920 г. все до единого были расстреляны[92].
И это лишь первый день! Так, по данным Я.Тинченко, 23 ноября 1920 г. тройкой» Особого отдела 6-й армии (председатель Быстрых, члены Брянцев и Цыбин) приговорено к смерти 25 человек, при этом количество расстрелянных составило 23 человека. На следующий день к расстрелу определили новую партию жертв в количестве 16 человек, и все они были убиты. 26 ноября 1920 г. приговорено 99 человек, из них 58расстреляныв ночь с 8 на 9января 1921 г. в Феодосии. На следующий день по постановлению той же «тройки» было расстреляно 25 человек, и на этот раз между количеством приговоренных и фактически расстрелянных не было разницы[93].
Всего, по подсчетам Я.Тинченко, 22-27 ноября 1920 г. в Симферополе расстреляно 1498 человек, что на 300 человек выше, чем указано в характеристике деятельности Особого отдела на Украине за период с марта 1920 года по март 1921 года (Экспедиция в Крыму)». В этом документе за подписью Е.Евдокимова, датированном апрелем 1921 г., отмечалось:
«Прибывши в Симферополь, ударная группа зарегистрировала до 2000 военнопленных офицеров, чиновников, буржуазии и после регистрации и фильтра[ции] расстреляла 1200 чел.»[94]
Сохранилось свидетельство современника о том, как происходили расправы:
«На рассвете всех офицеров вывели из дома в сад, где разделили на пять групп. Первую группу заставили вырыть себе братскую могилу, и когда она была вырыта, их поставили перед ней в ряд и залпом расстреляли. Большинство тел расстрелянных попадало прямо в могилу.
Вторую группу заставили стащить туда остальных расстрелянных товарищей и закопать могилу. После этого заставили их вырыть новую могилу для себя. Затем расстреляли новым залпом вторую группу, заставив третью делать то же, что и вторую и т. д. На другой день из казармы была уведена новая партия офицеров, и с ней повторилось то же самое»[95].
Когда через несколько дней после окончания расстрелов некоторые из родственников погибших, проникли в усадьбу, их взорам открылась следующая картина:
«…они пошли сначала к сторожам-татарам. Застали одного, который рассказывал им, что их, сторожей, заставили присутствовать при казни, после чего его товарищ сошел с ума и убежал, а он не может нигде найти себе покоя и совсем не может спать… Он повел их в дом, где в одной из комнат они нашли кучи окровавленного белья и стены, забрызганные кровью. В другой комнате стены были исписаны фамилиями и было написано: «Не верьте, что нас только расстреляли — нас здесь пытали и издевались над нами».
Затем они со сторожем отправились на место расстрела. Здесь они увидели четыре братские могилы и одну незасыпанную яму, в которую были навалены, как попало, трупы офицеров. Некоторые в белье, а другие даже без белья. Один из трупов был в стоячем положении и держался рукой за другой сидячий труп. Рот у него был открыт и, по словам татарина, он был еще живой, когда его бросили в могилу. Из одной зарытой могилы торчали ноги в носках, причем носки на подошве были во многих местах прожжены, и татарин говорил, что многим жгли ноги в доме во время допроса»[96].
Свидетельство очевидца о массовых казнях в районе Симферопольского водохранилища дополняютвоспоминания крымскотатарского писателя и поэтаШевкиБекторе:
«…тех, кто поверил обещаниям большевиков, вывезли к востоку от Симферополя, вдоль дороги Алушта-Ялта заставили вырыть ямы и расстреляли. Тела несчастных хоронили другие – такие же приговоренные большевистским правительством.
Одним поздним вечером я проходил мимо истерзанных забытых садов. Тишина, что стояла вокруг, была такой неправдоподобной, что мне было жутко. Я не слышал своих шагов. Казалось, обычная ночь спускается на Крым. Вон, какие чистые звезды сверкают из-за туч! Но что-то было не так. И вдруг я увидел перед собой чью-то тень. Остановился. Тень не шевелилась. Осмелился подойти ближе. Это была женщина. Когда я приблизился, он резко обернулась и испуганно отшатнулась. Свет луны отразился на серебряных дорожках слез на ее лице. Позади нее я увидел небольшой холм, посередине которого лежал букет цветов. Женщина переводила взгляд то на меня, то на цветы. Она была очень напугана и я, почти шепотом, чтобы успокоить ее, поздоровался:
— Здравствуйте, ханим.
Но ответа я не услышал и продолжил:
— Читаете молитву?
Она качнула головой и тихо сказала:
— Да… Да, пришла проведать усопших. Молюсь за их души.
— Не бойтесь меня, ханим. Я такой, как и вы. Откуда вы родом?
-…
— Кто бы тут не был, но если ты молишься, пусть Аллах смилуется над усопшим.
После недолгого молчания женщина опустилась возле холма. Я осторожно присел рядом, с интересом поглядывая на незнакомку. Она не обращала на меня внимания – гладила цветы и медленно говорила:
— Еду из Украины, но родилась в Симферополе. А здесь похоронены двое моих сыновей и муж. Их расстреляла ВЧК.Мои сыновья служили в армии Врангеля. Один был офицером, а другой – простым солдатом. И мой муж до революции был офицером царской армии. После ранения в первой Мировой войне вышел в отставку. Армия Врангеля ушла из Крыма, а мы решили остаться. Это было большой ошибкой с нашей стороны.
Она заплакала»[97].
«Окраины города Симферополя, — вспоминал генерал Иродион Данилов, служивший у красных в штабе 4-й армии, — были полны зловония от разлагавшихся трупов расстрелянных, которых даже не закапывали в землю. Ямы за Воронцовским садом и в имении Крымтаева оранжереи были полны трупами расстрелянных, слегка присыпанных землей, а курсанты кавалерийской школы (будущие красные командиры) ездили за полторы версты от своих казарм (бывшего Конного полка) выбивать камнями золотые зубы изо рта казненных, причем эта охота давала всегда большую добычу»[98].
Помимо усадьбы Крымтаева, расправы происходили и в других местах, например, за железнодорожным вокзалом. Расстреливали и в тюрьмах.
Хотя, как правило, чекисты старались проводить экзекуции вдали от глаз посторонних, сохранились свидетельства людей, видевших, как приговоренных к смерти вели под конвоем к месту будущей казни.
«В Симферополе, — писал В.Вернадский, — в это время проходили массовые убийства…Через Симферополь каждую ночь проводили арестованных «офицеров» и уводили на расстрел. Люди были так растеряны, что не сопротивлялись»[99].
Надо сказать, что родственники жертв, пытавшиеся проникнуть на места экзекуций, чтобы отыскать для погребения тела своих близких, все время подвергались смертельной опасности и в случае обнаружения также могли быть расстреляны[100].
Новая волна расстрелов накрыла Симферополь в декабре 1920 г. На этот раз главным проводником репрессий выступал Особый отдел 4-й армии. Первые расстрельные постановления, за № 1 и № 5, вынесенные данным карательным органом, и выявленные в украинских архивах Я.Тинченко, датированы 2 и 6 декабря 1920 г. Всего на основании этих постановлений расстреляно 100 человек[101]. 7 декабря 1920 г. было казнено еще 82 человека. На следующий день к этой цифре добавилось еще 65 человек[102]. 11 декабря 1920 г. вынесено постановление о казни 81 человека, но, в связи с тем, что заключенные, содержавшиеся в симферопольской городской тюрьме, подняли бунт, приговор был приведен в исполнение после его подавления -16 декабря 1920 г.[103] 19 декабря 1920 г. «тройкой» ОО 4-й армии составлен протокол о расстреле 159 человек[104].
Среди убитых были как бывшие врангелевцы из числа тыловых офицеров, так и чины симферопольской городской стражи, а также чиновники и обыватели.
Одновременно с расстрелами в городе проводились облавы. Оцепляя квартал за кварталом, чекисты сгоняли задержанных в фильтрационные пункты, где проводили в течение нескольких дней сортировку, проверяя документы и решая, кого отпустить на свободу, а кого увезти за город, на расстрел.
Свидетельство генерала И. Данилова:
««В городе, конечно, по общему большевистскому шаблону была закрыта свободная торговля, а на местном огромном базаре не повинующихся этому грабили в свою пользу агенты Чека и Особого Отдела, устраивая облавы на торговцев. По базару вообще проходить было небезопасно. Все тихо и мирно, слышится гортанная, зазывающая речь торговцев татар, привезших свои продукты на базар, вдруг раздаются выстрелы, свист пуль, и испуганная толпа шарахается в разные стороны. Летят лотки, корзины, появляются вооруженные красноармейцы с площадной бранью, — оказывается, это производится облава для прекращения торговли. Счастье, если сам не попадешь в середину облавы, как рыба в невод, а то в противном случае придется посидеть суток двое где-нибудь в Особом Отделе. Пока докажешь на основании своего удостоверения личности, что служишь в штабе армии и шел на службу случайно через базар. Или же другой пример: идешь по улице на службу или со службы, вдруг на перекрестке улиц преграждает путь цепь красноармейцев, не пропускающая далее и указывающая другой путь следования. Уже и наученный горьким опытом знаешь, что там значит тоже арестовывают всех, кто туда приходит, и поэтому, желая избежать ареста, бросаешься в другую улицу, но там натыкаешься на тоже самое. Оказывается, что оцеплен целый квартал в несколько улиц, для проверки документов, с целью изловить скрывающихся врангелевцев. Для этой цели всех отправляют окруженных густым конвоем в бывшие казармы Литовского полка. Там с проверкой не торопятся, а приводят лишь новые и новые партии. В конце концов, дня через два, если у кого были документы верны, выпускают, причем, если попробуешь протестовать за незаконное задержание, то рискуешь остаться там на более продолжительное время. Конечно, выходишь оттуда вшивый, так как приходится спать на голом каменном полу, в тесноте, вповалку, всем вместе. И кого там не увидишь? И обывателя, и красноармейца, и женщин, и мужчин, и детей, и штабного служащего, и даже чекиста. Все в общей куче до выяснения. Служащие штаба армии пробовали просить свое начальство об ограждении их от задержания в таких случаях, мотивируя тем, что служба их в штабе страдает от этого, что, в действительности, и было; начальство соглашалось с этим, но что оно могло поделать против всесильной Чеки и Особого Отдела»[105].
Чтобы оказаться в числе арестованных, достаточно было иметь интеллигентную внешность и быть прилично одетым. От задержания не гарантировали ни служба в советских учреждениях, ни личное знакомство с чекистами и высшими партийными функционерами.
Условия содержания в тюрьмах и местах заключения были ужасны. Как записал в своем дневнике тогдашний ректор Таврического университета, известный ученый Владимир Вернадский, «…рассказывают ужасы. Без еды, без питья, скученные – нельзя сидеть, стоя сутками. Старики, женщина. Ругань. Сама стража получает по ½ ф<унта> хлеба. Пищу приносящих гонят. Положение стариков <…> ужасное. <…> Полный произвол и пренебрежение к человеческой личности»[106].
Сохранились документы о ходе и результатах фильтрации, проведенной чинами ОО 4-й армии. Внимание особистов привлекли лица, содержавшиеся в концлагере, расположенном в симферопольских казармах. 23 декабря 1920 г. членами «тройки» был протокол, в котором были указаны фамилии 277 человек, из них только 77 осудили к расстрелу. Остальные были либо направлены в распоряжение военных комиссариатов, либо отпущены по домам. Но большинство арестованных были вынуждены провести в неволе несколько недель, так как их определили в концлагерь в период с 3 по 11 декабря 1920 г.[107]
30 декабря 1920 г. осудили к смерти 121 человека, среди них было 24 рабочих симферопольского завода «Анатра», а также кондитер Георгий Ерофеев и пекарь кондитерской Прасковья Михайли-Каштанова. Кроме того, были осуждены к смерти полковник К.Шиманский и его супруга Мария, пытавшаяся передать мужу деньги на выкуп для освобождения[108].
Следующий, 1921 год, ознаменовался осуждением к смерти 256 человек. Это произошло 6 января 1921 г. 27 января 1921 г. к расстрелу приговорили 115 человек из числа казаков, доставленных из Севастополя и с Керченского полуострова[109]. Узнав о предстоящей расправе, один из казаков, В.Худой, скрылся, но 4 февраля 1921 г. был пойман и в двадцатых числах расстрелян[110].
28 января 1921 г. приговорили к смерти еще 91 человека, преимущественно добровольцев и казаков. Среди расстрелянных было двое неизлечимо больных офицеров: подпоручик Борис Грабовский и подполковник Александр Филиппов. Они лежали в лазаретах и околодке Крымских казарм, затем по требованию ЧК были препровождены в Литовские казармы. Прочие расстрелянные также ранее находились в лечебницах и лазаретах Симферополя и Ялты. После полного или частичного выздоровления они направлялись в особый отдел 4-й армии, а затем – на расстрел[111].
9 февраля 1921 г. к расстрелу осудили 50 человек — казаков, калмыков, добровольцев и различных чины ведомства внутренних дел. В частности, было расстреляно несколько почтальонов, которых чекисты почему-то сочли подозрительными. Среди казненных был служащий симферопольской почтово-телеграфной конторы Василий Гусеница, за благонадежность которого ручались 132 почтовых служащих, но это никак не повлияло на его участь.
Несколько дней спустя, 13 либо 15 февраля 1921 г. (в документе обрезана верхняя часть даты), расстреляно 28 человек – также преимущественно казаков, стражников, чиновников и добровольцев[112].
Кроме того, расстрельные приговоры выносились и по одиночным делам.
В издании «Годовой отчет Крымской Чрезвычайной Комиссии за 1921 год» были приведены мемуары анархиста Уралова, арестованного ОО 4-й армии, в которых он подробно описал свой арест и содержание в симферопольской губернской тюрьме. Он содержался в т.н. «красной одиночке» – камере №10, куда доставляли провинившихся большевиков и прочих революционеров. Автор воспоминаний стал очевидцем проведения казней. Так как в отчете в целом порицалась деятельность особых отделов, опубликованное свидетельство использовалось чекистами во внутриведомственной борьбе.
В мемуарах, озаглавленных «Из тюрьмы в тюрьму», Уралов подробно описывает обстоятельства своего ареста. Он прибыл в ОО 4-й армии, чтобы выручить близкого ему человека, которого секретарь Крымского обкома Р. Землячка обвинила в контрреволюционной деятельности. Убедить особистов, что его друг невиновен, Уралову удалось. Но вскоре за ним пришли и заключили под стражу.
«Кончились серые, монотонные дни старого года. Новый 1921 год. С утра нас посетили гости, визитеры, из числа «вершителей судеб» которые испортили нам настроение на целый день. Что может быть гаже видеть перед собой пьяного представителя власти, изрыгавшего потоки грязной брани по адресу одного из заключенных и чувствовать свое бессилие утереть нос негодяю? Будет «шмалка» («Шмалка» на современном лексиконе означает – расстрел – прим. автора воспоминаний). За время своего пребывания в тюрьме, мы успели уже привыкнуть к подобным пертрубациям. Ночные стоны, лязг замков, возня, говорили нам за то, что в другом конце коридора происходит перевод в небытие. По утрам мы со страхом смотрели в волчок дверей тюремной школы и увидав разбросанные клочки, бумаги, одежды, наглядное подтверждение ночных похождений, спешили уйти прочь. А через несколько часов мы узнавали цифру дани безжалостному року. 30 душ, 68, 70, 50. Но сегодня Новый год…
Ночь. Мы бодрствуем. Сон не в силах сомкнуть наши веки. Еще не было поверки, да и не будет. Некогда. Стража занята. Необходимо приготовить 120 человек… шаги… не к нам ли? Мимо… дверь соседней клетки – камеры издала жалобный стон. Вызвали, повели. Вздохнули свободно. Мы стыдимся взглянуть в глаза друг другу, ведь мы живем одной и той же мыслью, прячем ее в тайниках своего сердца. Бр-р-р! Гадкая низкая мысль:
– «Не меня, другого! Я буду еще жить, буду метаться, ожидая своей очереди, но меня, может быть, меня минует эта чаша»…
Мы виновато улыбаемся, стараясь говорить о мало интересующих нас вещах, шутим, нам весело… мимо, смерть, мимо!!!…
– «Иогансон, выходи!» – «Куда?»… (праздный вопрос), мы хорошо знаем куда… зачем…но притворяемся… и еще как притворяемся!
– «На допрос!» – звучит ответ: «не бойтесь, из вас сегодня больше никого не возьмут, спите спокойно»… Спасибо. Хорошее, милое пожелание – разрешение на спокойную тихую ночь. Но мы не спим. Нам жутко. Мы жадно ловим каждый звук. А звуки хлопают, стонут, хлюпают, заполняя собой всю тюрьму… кто-то молит о пощаде… уверяет в своей невиновности. Другой требует суда, гласного, открытого… милости, своей невинности. Требует… но… «тройка постановила» и вы должны покончить свое существование… И двери школы жалобно скрипят, принимая все новые и новые жертвы. Обреченных ведут в школу, в настоящую тюремную школу, где по стенам развешаны карты, наглядно изображающие флору и фауну нашей бедной планеты, у стены стоит рамка с натянутым на нее полотном – «волшебный фонарь». Быстрым темпом кружится просвещение: бьют, раздевают, вяжут по четыре за руки, а где-то, за стенами тюрьмы тяжело вздыхает авто… Четыре часа утра… Лязг оружия, стоны… Вести по лестнице связанных «четверок» неудобно, да и зачем, когда есть более кратчайший путь: «спустить». Все равно смерть, с целыми или переломанными ребрами, они все равно умрут… их сбрасывают, головы несчастных зубрят математику, считая ступени, перила. Мы молчим, мы улыбаемся, хотя в наших глазах проглядывает страх смерти. И нам весело… ах, как весело!… И почему нам не веселиться? Разве не мы, старые революционеры, обагрили кровью, так недавно дорогой, а теперь забытый лозунг «долой смертную казнь». Но революция была, революция стерла остатки былого… и она-ли виновата, что мы не сумели войти в открытые революцией двери?… что возродилась новая власть, которая уступая духу времени, вынуждена обратить тюремную школу в раздевальню, предшественницу «шмалки»[113].
Точное количество людей, осужденных «тройкой» ОО 4-й армии в Симферополе (как и вообще на территории Крыма) – неизвестно. По мнению Я.Тинченко, «очевидно, речь идет о не менее чем 2-х – 2,5 тысячах людей, из которых только у около 1700 удалось установить имена: найти их анкеты либо упоминание в расстрельных списках»[114].
Как отмечено выше, жестокость и беспощадность сотрудников особых отделов зафиксировали даже официальные чекистские документы. Так, в годовом отчете Крымской Чрезвычайной Комиссии за 1921 г. отмечалось, что в первые месяцы после окончательного установления советской власти «шел общий учет оставшегося белогвардейского офицерства, чиновничества и др. прислужников Врангельского строя, которым давались для заполнения анкеты, поступавшие на рассмотрение Тройки, и весь этот элемент беспощадно расстреливался»[115].
Кроме особых отделов, свой вклад в развертывание красного террора в регионе и городе внесли местные территориальные чекистские подразделения.
9 декабря 1920 г. создается местное подразделение ВЧК – Крымская чрезвычайная комиссия (КрымЧК)[116]. Первым ее председателем был назначен давний участник революционного движения, член РСДРП (б) с 1903 г., Иосиф Каминский. До своего назначения он последовательно возглавлял Курскую и Минскую губЧК. Впоследствии руководил ЧК в Симферополе и Керчи[117]. Каминский привез с собой небольшой штат сотрудников, однако, по данным годового отчета Крымской ЧК за 1921 г., в распоряжении первого председателя «не было аппарата, который ему предстояло только создавать. И поэтому работу Ч.К. его периода нечем было отметить»[118]. 21 декабря 1920 г. Крымским областным комитетом РКП (б) была утверждена коллегия КрымЧК в следующем составе: председатель – Каминский; заведующий секретно-оперативным отделом – Полканов; секретарь – Протопопов; заведующий административным отделом – Погребной; представитель ревтрибунала – Курган[119].
19 января 1921 г. на полуостров прибыл Станислав Реденс, полномочный представитель ВЧК на территории Крыма. Комментируя его назначение, «Известия» позднее писали, что Реденс был послан «на пепелище врангелевских лагерей, чтобы железной рукой вымести из Крыма белогвардейское охвостье»[120]. В конце января 1921 г. Крымревком объединил все местные ЧК и установил полномочное представительство ВЧК на территории Крыма[121]. В Симферополе, Севастополе и Керчи им были образованы самостоятельные городские ЧК с подчинением непосредственно полпреду ВЧК и с правом вынесения смертных приговоров, а в Феодосийском, Евпаторийском и Ялтинском уездах – политбюро с правом исключительно ведения следствия. В ряд районов Крыма (Карасубазарский, Бахчисарайский, Джанкойский) направлены уполномоченные. Сам Реденс проводил свою работу через аппарат Симферопольской городской ЧК. Председателем Симферопольской ЧК был назначен Михаил Вихман с заместительством полномочного представителя; Севастопольской – бывший секретарь президиума ВЧК Василий Савинов и Керченской – Каминский[122].
По сравнению с чрезвычайными «тройками» особых отделов, количество расстрелов в Симферопольской ЧК было ниже. Во многом это было обусловлено тем, что местные территориальные чекистские подразделения в рассматриваемый период находились в стадии становления.
Тем не менее, в феврале 1921 г. Симферопольская ЧК также во множестве выносила смертные приговоры. Сохранились протоколы заседаний коллегии под председательством М.Вихмана. 5 февраля 1921 г. приговорили к расстрелу 5; 9 февраля – 2, 14 февраля – 3; 21 февраля – 6 человек – бывших офицеров, чиновников белых правительств и полицейских[123].
Известны воспоминания одного из узников Симферопольской ЧК, которому удалось бежать с места казни. В них он описывает обстоятельства своего ареста, двухдневного пребывания в смертном подвале и спасения от, казалось, неминуемой, гибели. Не эвакуировавшись вместе с белыми, был арестован в окрестностях Ялты, шесть дней провел в местной тюрьме, затем был передан в Симферополь. Ожидая своей участи, пережил многие ужасы.
«Я стал рассматривать своих сотоварищей, всех было четырнадцать человек. Все сидели скорчившись, молча, и все тупо смотрели куда-то в пространство. «Вы думаете, что это и весь подвал? — начал недалеко от меня сидящий господин, прикрытый не то одеялом, не то пледом полосатым. — Нет, батеньки, это маленькое отделение всего этого проклятого подземелья! Вы взгляните вправо, там тоже как будто темнеет углубление, а до этого так мы сидели в другом! Что это они нас все сортируют, да переводят из одного в другое? Наверное, тоже свои соображения есть?» — «Да перестаньте вы молоть чепуху! И без того тошно, а вы все соображения свои высказываете», — с раздражением перебил «черный» и захрустел пальцами. «Сейчас кончу, только знать бы мне хотелось, в чьем доме мы находимся, вот девять лет живу здесь, а как начали водить, так запутался, ей-богу! И улицу-то не заметил! А вы не очень-то отчаивайтесь, может, Бог даст по-хорошему обойдется!» — докончил он. «Ах! Хотя бы скорее! Только б не терзали этим бесконечным ожиданием!» — снова сказал «черный».
Рядом со мной сидящий чиновник медленно поднялся и, согнувшись, пошел к углублению, но вдруг отшатнулся и, громко ударившись головой об свод, быстро подбежал и, как сноп, опустился на свое место. Я ясно слышал, как у него стучали зубы. «Что? Что такое?» — со всех сторон посыпались вопросы. Он ничего не отвечал, только медленно теребил слипшиеся от холодного пота густые волосы. Свет от ночника падал на него и еще бледнее делал его небритое, оттеняющееся черными волосиками лицо, — глаза были расширены, и в них был не страх, не ужас, а нечто большее, звериное, невыразимое!
Влекомый любопытством, я поднялся и дошел до темного углубления — здесь круто вправо соединенное сводом было такое же самое помещение, в каком находились мы. Только потолок был еще ниже. Впереди вижу еле заметную полоску света. Инстинктивно бросаюсь к ней, хочу припасть глазами, чтобы с жадностью рассмотреть внешнее, но спотыкаюсь обо что-то мягкое, мокрое, шуршащее. Вглядываюсь — Боже!! Шарахаюсь в сторону… Удараюсь головой об свод, падаю… и ползком долезаю к своему месту. Вот когда меня охватывает ужас. Ужас той страшной, отвратительной неизбежности, которая ожидает меня. То, что я увидел, останется навсегда в моей памяти. Это была всего минута, меньше — секунда, а у меня так ясно запечатлелось все в подробностях.
На полу была зарубленная женщина: ее туловище без головы лежало распластанным в луже еще не засохшей крови. Поближе к свету, отдельно, валялась голова с распущенными длинными волосами. Вместо носа была зияющая кровавая рана, и я до тонкости рассмотрел белеющий носовой хрящ. Одного глаза не было, и вместо него было темное отверстие. Все лицо было в порезах и кровавых рубцах, кое-где виднелись страшные следы пальцев в виде темных подтеков. Верхняя губа рассечена и из кровавой десны одиноко торчал длинный зуб… Все время в подвале я замерзал от холода, а после этой картины мне стало жарко! Я почувствовал, как мои руки сделались липкими, а внутри у себя чувствовал ужас! Ужас! Ужас!
Воцарилось глубокое молчание — все притаили дыхание, даже словоохотливый рассказчик в полосатом пледе как-то осунулся и молчал! Не чувствую ни так мучившего меня за эти последние дни холода, наполнявшего весь этот сырой подвал. Полное оцепенение! Только в голове ясно слышу, как стучит кровь — как будто кто-то долбит маленьким тупым молоточком… Ночник начинает тухнуть, никто не хочет встать поправить — все как будто прикованы к цементному полу. Хочется курить!.. Последняя вспышка, и лампа потухла. Темно — сразу стало даже как будто лучше, не видно ни этого мрачного, как гроб, подвала, ни этих осунувшихся, искаженных бледных лиц. Но через несколько минут ощущаешь новую волну страха… Вот он незаметно подкрадывается, вот охватывает все больше, все крепче! Хочется кричать, хочется видеть, ощущать кого-нибудь, в крайнем случае биться головой об стенку – только бы чувствовать, что ты живешь, что ты еще не умер. И так хочется жить, так хочется еще раз увидеть свет, что я не выдерживаю и под впечатлением всего пережитого чувствую, как у меня что-то оборвалось, я крикнул и зарыдал! Плакал, как ребенок, кричал, ругался, кусал себе губы и чем дальше, тем сильнее чувствуя невыразимое душевное наслаждение и приятно ломящую истому во всем теле. Последнее всхлипывание – и я лежу на холодном, грязном полу, касаюсь его лбом, губами и так приятно щекочет этот холод мое горящее, еще поддергивающееся от недоконченных рыданий лицо.
Долго лежал в таком оцепенении, ничего не соображая, ни о чем не думая и не замечая… Раз… Два… кто-то медленно спускается по каменной лестнице – все яснее слышны тяжелые мужские шаги, позвякивающие об камень ступенек медными дребезжащими подковками. Вот остановились, слышны звуки вкладывающегося в дверь ключа… Несколько скрипящих поворотов, стук отодвигаемого заржавленного засова, и мне в лицо ударяет целый сноп горящего от фонаря света и струя свежего морозного воздуха… Сразу даже больно смотреть. «Ишь, черти косолапые, потушили свет!» – раздался грубый голос здорового, в казенном дубленом полушубке и серой солдатской шапке с красной звездой мужика. «Вот я вам покажу, проклятые, – ну, живо ворочайся, сволочь!» – и, нагнувшись, начал доставать из бокового кармана какой-то бумажный сверток. «На допрос первый, третий, седьмой, одиннадцатый и четырнадцатый. Эй, товарищи, возьми их!».
Медленно поднялся и перекрестился чиновник. Молча, нагнувшись, прошел высокий офицер. Поднялся, с отчаянием дикого загнанного зверя, «черный», еще больше худой и высокий на своих шатающихся длинных ногах. Посмотрел на нас долгим, полным ненависти завидующим взглядом, каким может смотреть только обреченный на смерть человек на наблюдающих за ним остающихся людей! Встал и, странно склонивши голову набок, прошел в зеленой английской шинели татарин, окинув всех безразличным, а вернее просто не сознающим, тупым взглядом своих маленьких черных глаз.
«Сколь у вас там?» – крикнул мужик с фонарем, обращаясь к темному выходу. «Четырре» – раздался ответ сразу двух голосов. «Ну еще! Где ты? Гусь лапчатый!» – подымая фонарь, обратился мужик по направлению к нашей стене. – Что, встать не можешь? Так подыму живо!» В луче фонарного света я увидел стоящего на коленях седого широкоплечего старика, который медленно с полным достоинством откладывал земные поклоны и неслышно шептал побелевшими губами слова молитвы. Было что-то величественное во всей его фигуре и позе – ни один мускул на лице не выражал волнения, только истово сложенные длинные пальцы на лбу в виде крестного знамения слегка дрожали. «Ну, вставай! Ты, старый хрыч, тоже выдумал здесь – небось ежели святой, так и без энтовоприймут в рай!». Старик медленно, с трудом начал подниматься, сначала уперся руками об пол, потом об стену и, нагнувши голову, начал медленно выходить. «Это матерый зверь – видно, из генералов будешь!» — сказал мужик и с силой ударил ножнами шашки по согнутому затылку старика.
Послышался слабый стон и шум падающего большого тела. «Ну?» — полный дикости и злобы, скорее похожий на звериной рычание, раздался крик… И – дальше нельзя описать той омерзительной, той ужасной животной сцены, которая произошла… Я слышал удары приклада винтовок обо что-то мягкое… потом хрустящий треск – раздался стон, заглушаемый нечеловеческим криком: «Вставай, скотина! Убью!». Снова удары… Свист и лязг об каменный потолок шашки и… я закрыл глаза и заложил пальцами уши… Когда я посмотрел снова, то было темно и тихо – только едва слышен был удаляющийся топот нескольких ног по каменным ступеням вверх. За что? За что? Ведь даже не узнали, кто это за человек? Виноват или нет? Неужели сейчас это будет и со мной?!.. Чувствую, как во рту все пересохло, хочется пить и освежить себе голову, а главное двигаться, чтобы в быстром движении забыться и не думать о том, что так неотвязчиво стоит перед глазами.
<…>
Обращаюсь в пространство: «Кормить-то нас будут или нет?». «А зачем? <…>Все одно этой ночью в расход пустят». <…> Снова клонит ко сну, начинаю дремать – мысли совершенно уходят из головы, остается какой-то сумбур и сплошной прах – голова склонилась как неприкрепленная, и я заснул. Не знаю, долго ли я спал или нет, но проснувшись, почувствовал себя бодрее и долго не мог ничего понять, даже в карман за табаком полез. И вдруг сразу все сообразил, и снова холод и голод, и эту безумную нечеловеческую усталость почувствовал. «Идут!» – не сказал, а скорее прошептал чей-то голос…
Вошли с фонарем, и держал фонарь и лист бумаги все тот же самый вчерашний мужик в полушубке: «Ну, подымайся! Второй, четвертый, … трина…» – я закрыл глаза, затаил дыхание, – …дцатый, – как будто топором отрубили. – Выходи!». Мы поодиночке прошли мимо фонаря и начали выходить за дверь… Тут были три вооруженных, со взятыми наизготовку винтовками, человека. Было темно. Морозно… Чувствовалась бодрящая свежесть, на ступеньках лежал снег. Начали медленно, два впереди, а я сзади, окруженные часовыми, подыматься кверху… Чувствую, как во рту стучат зубы, как будто на барабане мелкую дробь отбивают, холодно… Широкий двор, вправо большая казарменная постройка, впереди налево какое-то темное углубление, ясно выделяющееся среди общей снежной белизны.
На небе горели и переливались маленькие звездочки, под ногами скрипел замороженный снег и как-то странно подбрасывался и рассыпался <…>. Идем по направлению к углублению, видно несколько больших деревьев и взрытая свежая морозная земля. «А река — Салгир!» – соображаю я. – Вот тут под откосом конец! Да сейчас, – мысленно прикидываю в голове, – ну шагов 30-40, не больше, а значит 2-3, ну от силы 5 минут и баста! Не будет еще трех в живых – ноги начинают подкашиваться, и я чувствую, как они примерзают к снегу и становятся все более и более неподвижными, как будто наполнили их огромной тяжестью так, что нет возможности идти дальше… Я начинаю отставать, потом останавливаюсь, чтобы перевести дух… Хочется сесть, чтобы уже не двигаться… Хочется припасть к этому дразнящему холодному снегу и глотать его и… «Ну что стал, черт?!» – я умоляюще смотрю на конвойного. «Передохнуть! Минуточку, капельку!» – шепчу пересохшими губами…
Вдруг случилось что-то странное, невероятное, как-то сразу весь двор и это углубление, и деревья, и спины идущих впереди осветились красным огромным светом. Все даже приостановились: «Глянь, Яша! Не наш ли горит?» – остановились, смотрят в сторону, вправо. «Бежать!» – как молнией, сверкнуло в голове. «Бежать!» – до невероятности простое и до безумия неисполнимое огромное желание. Ээх!! – не то крикнул, не то прорычал и… Снег… лед… холодная вода… «Бух!! Тррах! Взжжи! Взжжи! – прожужжали пули… Берег! Снова «Бух! Взжи… Взжи… – возле самого уха. Яма… Забор… и улица, не знаю куда, как, ничего не чувствуя и не соображая, подгоняемый всеохватившей мыслью вперед, мыслью вырвавшегося из самых когтей смерти человека – я бежал, бежал… кончился город – белое поле, освещаемое красным заревом пожара, а впереди чуть заметные горы – спасительные горы!..»[124]
Автору этих воспоминаний повезло. Их он написал, уже находясь вне Советской России, в Константинополе, 3 апреля 1921 г.
Одним из направлений террора стали аресты и последующие расстрелы пациентов госпиталей и больниц, а также медицинских работников. Первые расправы над раненными и больными военнослужащими Русской армии происходили уже в ходе «стихийной» фазы насилия. Количество погибших в этот период исчисляется сотнями[125]. Вскоре эксцессы на почве «классовой мести» сменились организованными репрессиями. Так, по данным Л.Абраменко в декабре 1920-июне 1921 г. по постановлениям «троек» были расстреляны 6 бывших солдат армии Врангеля, которые находились на излечении в Симферопольском госпитале[126].
«В Симферополе, вспоминал очевидец, «одного старого доктора-психиатра <…>расстреляли за то, что он не хотел выдать двух психически больных офицеров, находившихся у него в отделении»[127]
Насилие сопровождалось мощной пропагандистской кампанией. В местной печати публиковались сообщения о расстрелах, имена некоторых жертв, материалы о деятельности ЧК и особых отделов. Так, 12 декабря 1920 г. газета «Красный Крым» знакомила читателей с практическими результатами работы Крымской ударной группы. Ей была посвящена целая рубрика под заголовком «За что карает советская власть».
«Они не успели удрать с генералом Врангелем, — язвительно отмечал публикатор, — и принуждены были временно почувствовать строй столь неприятной им «Совдепии». Они все расстреляны, уничтожены карающей рукой пролетариата. 3а что? Прочитайте их звание, приглянитесь к их прошлому и вы поймете. Эго все дворяне, старые царские служаки, ненавидящие Рабоче-Крестьянскую власть всеми фибрами своей «благородной» души. 3 года нашей власти стояли они в рядах белой гвардии, горя желанием нас уничтожить и отпраздновать кровавую победу над трупами рабочих и крестьян. Мы были смешны и легкомысленны, если бы теперь момент нашего появления в Крыму оставляли бы в живых такие элементы.
Они каждую минуту использовали бы для организации новых восстаний, новых бунтов против Советской власти. Наш освобожденный Крым должен быть очищен от всякой белогвардейской накипи. Рабоче-крестьянское здание может и должно строиться в атмосфере чистой, революционной, красной»[128].
Далее приводилось постановление о расстреле 6 человек (четверых мужчин и двух женщин):
- Яковлева Михаила Васильева — за сокрытие своей службы в Дроздовском полку в чине подполковника, незаконное хранение револьвера и за службу в политотделе контрразведки.
- Линдемана Германа Эвальдовича — полковника, дезертировавшего из Красной армии и занимавшего при белых ответственный пост. Приговоренному также вменялось в вину укрывательство бывших офицеров.
- Романовского Павла Павловича, корнета, помощника начальника судебной части контрразведки военной базы Вооруженных сил Юга России.
- Воскресенского Сергея Федоровича (он же Плетнев Сергей Александрович), поручика, — за сокрытие своего офицерского звания, уклонение от регистрации и побег из мест заключения.
- Муровской Ольги Вениаминовны, — дворянки, жены толковника, пытавшейся уехать в Константинополь. Ей также вменялась в вину служба в отряде генерала Шкуро, дружба с женой Врангеля и выдача коммунистов ставропольской контрразведке, в которой приговоренная якобы служила.
- Лавровой Домники Федоровны – за укрывательство офицеров и содействие в устройстве их на службу[129].
В дальнейшем в той же газете публиковались имена некоторых лиц, приговоренных к расстрелу либо заключенных в концлагерь коллегией Симферопольской ЧК. Так, в номере «Красного Крыма» от 9 февраля 1921 г. в рубрике «За что карает советская власть» были приведены сведения на 10 человек, обвиненных в контрреволюционной деятельности, чьи дела были рассмотрены 7 февраля 1921 г.:
- Лаврухин Алексей Степанович – «активный участник армии Врангеля, бывший инспектор поезда Слащева», приговорен к расстрелу.
- Масловский Иван Онуфриевич, бывший офицер царской армии, при Врангеле занимал пост начальника огнесклада, был комендантом поезда Врангеля. Приговорен к расстрелу.
- Феденко Прокопий Трофимович – машинист депо на станции Симферополь, в 1919 г. состоял в рядах большевистской партии. За переход на сторону белых и выдачу «многих коммунистов, что повлекло за собой провал партийной подпольной работы в Крыму», приговорен к расстрелу.
- Хачатурянц Арутюм Александрович – «служил в контрразведке, активно участвовал в подавлении большевизма в Армении войсками Деникина». Приговорен к расстрелу.
- Пушин Анатолий Михайлович – состоял товарищем прокурора симферопольского окружного суда, эвакуировался в Крым из Харькова вместе с белыми, как товарищ прокурора принимал участие в репрессиях в отношении большевиков. Приговорен к расстрелу.
- Марков Борис Васильевич – офицер армии Врангеля, скрыл свое офицерское звание, не явившись на регистрацию офицеров, благодаря чему проник на службу в Территориальный полк. Приговорен к расстрелу.
- Шестопал Берта Яковлевна – за укрывательство Маркова Б.В. приговорена к заключению в концлагерь сроком на 5 лет.
- Раскин Михаил Константинович, бывший студент. Служил добровольцем у белых в составе Корниловской ударной дивизии. Скрыл свою прежнюю службу, благодаря чему поступил на советскую службу, работал правозаступником. Расстрелян.
9.Мамбед Кирилаоглы
- ИвоэдинМуединоглы
Оба обвинены в убийстве татарина и в выдаче комиссара Марченко, расстрелянного белыми. Приговорены к смертной казни[130].
На следующий день, 10 февраля 1921 г., в газете «Красный Крым» опубликовали новые имена лиц, которых репрессировала Симферопольская ЧК. Здесь сотрудники карательных органов проявили больше разборчивости. Из 19 дел, рассмотренных на заседании коллегии, по 9 были вынесены смертные приговоры, по остальным 10 делам обвиняемых частью заключили в концлагерь на различные сроки, частью – оправдали.
Так, двое жителей города, обвиненных в контрреволюции, за недоказанностью обвинения были освобождены. По этой же причине прекратили дело в отношении двух других симферопольцев, заподозренных в выдаче белым лиц, которые выражали поддержку советской власти.Человека по фамилии Сулейманов,обвиненногов добровольном поступлении в ряды государственной стражи, вначале приговорили к расстрелу, но, «принимая во внимание его пролетарское происхождение и принадлежность к рабочему классу» — заменили смертный приговор 5-летий лагерный срок. «Правильное» социальное происхождение также спасло рабочего Федора Субачева, обвиненного в укрывательстве имущества «бежавшего буржуя». Коллегия освободила Субачева от всякого наказания, и передала в распоряжение учрабсил. Служащую ОО 4-й армии, Лидию Иванову-Солодовникову, заключили в концлагерь сроком на 5 лет – за то, что она воспользовалась своим служебным положением и укрывала имущество соседок из числа «классово чуждых»[131].
Также в газете публиковались издевательские ответы чекистов на ходатайства об освобождении некоторых арестованных либо смягчении их участи. Эти материалы также публиковались на передовицах газеты.
Так, 27 ноября 1920 г. на первой полосе «Красного Крыма» разместили ответ начальника ОО 6-й армии Н.Быстрых ректору Таврического университета В. Вернадскому, который накануне просил сохранить жизнь бывшему министру продовольствия, торговли и промышленности второго краевого правительства Александру Стевену.
Статья вышла под заголовком «Смерть врагам трудящихся (ответ ректору Таврического университета на отношение в Особый Отдел IV о Стевене А.А.», и заканчивалась фразой: «Врагам трудящихся один ответ – смерть»[132].
В этом же номере опубликовали разъяснение Крымревкома, что со всеми ходатайствами по поводу арестованных следует обращаться в ОО 6-й армии[133]. Так гражданские органы власти исключали возможность апеллировать к ним.
Три дня спустя, 30 ноября 1920 г., за подписью Быстрых на первой полосе газеты опубликовали заметку «По заслугам», в которой сообщалось о расстреле бывшего управляющего Таврической казенной палатой, Александра Барта[134].
Практика террора тесно смыкалась с идеологией.
Так, уже во втором выпуске «Красного Крыма», на первой полосе опубликовали статью «Демократия и диктатура». В ней западная модель демократии преподносилась как скрытая форма диктатуры буржуазии, направленной на подавление рабочего класса, а большевистский режим истинным выразителем воли рабочих и крестьян.
«Всеобщее избирательное право, свобода печати и собраний—все это не что иное, как орудия буржуазного господства против трудящихся масс, все это лишь пустые звуки и наглый обман. Буржуазия дает трудящимся массам эти кажущиеся свободы только потому, что она знает, что они по их материальным условиям не в состоянии пользоваться ими. Буржуазия не допускает даже того, чтобы пролетарии стали сознательными и поняли свою судьбу. Через своих священников и учителей, в церквях и школах, она сознательно и систематически учит их уважению к буржуазному строю и слепому повиновению царям, капиталистам и помещикам».
В отличие от буржуазной демократии, пролетарская диктатура «создает необходимые материальные условия осуществления политической воли рабочих и крестьян». Советы определялись как «политическая форма диктатуры пролетариата» и противопоставлялись парламентам в западных странах.
«Совет – это не говорильня, подобно парламенту. Издавая законы, он и приводит их в исполнение. Он не болтает, а работает. Вот почему пролетарская власть не может допустить, чтобы в советы попадали буржуазные элементы.
<…>
Пролетарская диктатура, подавляя буржуазию и лишая ее всех прав, передает все права рабочим и крестьянам. Пролетарская диктатура означает для трудящихся самую полную демократию»[135].
В декабре 1920 г. в городах полуострова состоялись похороны жертв «белого террора». Эти мероприятия были использованы пропагандой не только для прославления памяти «мучеников революции», но и для обоснования массовых казней людей, отнесенных к числу потенциальных, реальных и мнимых врагов.
Передовица выпуска от 5 декабря 1920 г., почти целиком посвященного мемориальным мероприятиям, связанным с перезахоронением останков казненных белыми партизан и подпольщиков открывалась статьей «Белый и красный террор». Ее автор, некто М.Марголин, оправдывал деятельность ЧК и особых отделов, доказывая необходимость жесткой борьбы со всеми противниками советской власти:
«Буржуазия, а за ней в припляску меньшевики и эсеры всех государств и всех народов захлебываются в своих измышлениях о «зверствах» наших чрезвычаек о «насилиях», творимых большевиками.
Но ни единым словом не обмолвились эти борзописцы, эти продажные лакеи капитала о том, что творится в царствах Врангеля и Деникина, где разгулявшаяся, рассвирепевшая буржуазия творит суд и расправу над пролетариатом.
Сегодняшний день, день похорон жертв контрреволюции, раскроет, наконец, перед всеми рабочими Симферополя и всего Крыма тайны буржуазных контрразведок.
Кто наши покойники? Кого мы хороним сегодня?
Вчитайтесь, товарищи рабочие, в имена и фамилии усопших, откройте покрывало и всмотритесь в эти изуродованные лица растерзанных, замученных трупов.
Чего отшатнулись?
Узнали своих?
Да, это ваши старые знакомые, это ваши по плоти и крови, по нужде, по борьбе и труду.
За что вырвали из ваших рядов, за что их убили?
За то, что в то время, когда рабочее движение, руководимое меньшевиками, похоронили на кладбище, они не молчали, они не стали рабами.
За то, что это время, когда <…> другие вели торг с буржуазией, сидели за одним столом с пьяными генералами, обещая им держать рабочих на привязи, они не пресмыкались перед временно восторжествовавшей контрреволюцией.
Воспитанные в горниле рабочей революции, выкованные стальной коммунистической партией, они, рабочие-коммунисты, остались свободными, гордыми, смелыми, до последней минуты преданными великой идее освобождения пролетариата.
Не боясь ни смерти, ни пыток, смело бросали они вызов буржуазии. Своей неустанной подпольной работой, организацией рабочих масс, терроризированием всего врангелевского тыла, они, неустрашимые бойцы революции, дополняли геройскую борьбу Красной Армии. Вырывая из-под ног буржуазии камень за камнем, они приближали день победы пролетариата.
Не вытерпела их буржуазия. Она была по-своему права.
В лице коммунистов она чувствовала непримиримых классовых врагов. Если для меньшевиков у буржуазии находилось теплое местечко и теплое словцо, то для коммунистов был один подарок — шомполы и петля на шею.
Как выпушенный из клетки голодный зверь, набрасывались буржуазные отродья на попавшие в их лапы жертвы, рвали их тела на клочья, насиловали, ломали руки и ноги, придумывав всяческие пытки и истязания, упитывались кровью измученных людей, наслаждаясь их невыразимыми страданиями.
В этом отношении русская буржуазия показала, что она является достойной наследницей развратной разложившейся буржуазии Франции и хорошей последовательницей палача Венгрии генерала Хорти.
Казнью лучших товарищей буржуазия надеялась лишать рабочий класс его вождей, его поводырей и вдохновителей. И тем скорее с помощью услужливых продажных меньшевиков прибрать рабочие массы в свои руки, закабалить их, поработить.
Но напрасные усилия! Белый террор, как бы он ни свирепствовал, может лишь на время дезорганизовать рабочие ряды. Но он не в состояния остановить рвущейся вперед волны рабочего движения, он не может задержать идущего вперед к власти пролетариата.
На смену павших бойцов из среды пролетариата выходит новый ряд еще более отважных, еще более смелых, еще более горящих классовой ненавистью и жаждой победы.
Вот, кто каши покойники, вот, за что вражеская рука вырвала их из наших рядов.
Обнажим головы перед трупами этих славных бойцов мучеников великой пролетарской коммуны. Что же завещали они нам? Они умирали спокойно, ибо знали, что великое дело в верных руках, что знамя не падет, а перейдет в другие руки и в конечном счете восторжествует.
Они умерли за революцию. На их трупах, на их крови мы строим здание своего благополучия. Так будем же верны их заветам и дадим клятву охранять революцию, защищать ее завоевания!
Победивший рабочий класс не знает мести. Разве тысячи смертей белогвардейцев нам воскресят хотя бы одного товарища?
Но мы должен быть разумны и не повторять ошибок прошлого. Мы были слишком великодушны после октябрьского переворота. Мы не хотели крови даже наших заклятых врагов. Но мы дорого поплатились за это. Все выпущенные на свободу белогвардейцы, генералы и юнкера отплатили вам за нашу доброту целым рядом восстаний, заговоров, участием в качестве организаторов в белых армиях Колчака, Деникина и других.
Мы, наученные горьким опытом, уже сейчас великодушничать не станем. В освобожденном Крыму еще слишком много осталось белогвардейщины. Все они сейчас притихли, попрятались по углам. Они выжидают момента вновь броситься на нас. Но нет! Мы переходим в наступление.
Карающим, беспощадным мечом красного террора мы пройдем по всему Крыму и очистим его от всех палачей, поработителей, мучителей рабочего класса. Мы отнимем навсегда у них возможность посягать на нас. Мы отнимем у них возможность мешать нам строить нашу жизнь. Красный террор достигает цели, ибо он действует против класса, обреченного самой судьбой на смерть, он ускоряет его гибель, он приблизит час его кончины!»[136]
Необходимость борьбы с «буржуазией» подчеркивали выступающие на общем собрании симферопольской партийной большевистской организации, которое состоялось 30 ноября 1920 г. Заседание открыл брат Ленина, Дмитрий Ульянов, который выступил с докладом о текущем моменте. По итогам его выступления собрание приняло резолюцию, где одним из пунктов было «объявить в Крыму беспощадный террор контрреволюции и буржуазии»[137]. Далее в заметке «Двусторонний удар» сообщалось о задачах компартии. При этом декларировалось намерение осуществить масштабную «чистку» советских учреждений. В результате «контрреволюционеров, саботажников, спекулянтов» следовало отправить в концентрационные лагеря, а «бездельников» — на принудительные работы[138].
Волна расстрелов в Симферополе пошла на убыль только весной 1921 г. Но это не привело к нормализации жизни. Новое страшное бедствие — голод 1921-1923 гг. продолжило процесс дегуманизации общества. Смерть стала обыденностью, она была в порядке вещей.
Вместе с дефицитом продуктов и предметов первой необходимости, зависимостью от системы пайков и отупляющей пропагандой, насилие, которое применялось большевиками в первые годы после Октябрьского переворота, являлось действенным способом выработки «новой исторической общности» — советского человека. За время Гражданской войны красный террор в Крыму эволюционировал от внешне «стихийных» проявлений агрессии к системе тотального подавления. В процессе чего приобретал все больший размах, характеризуясь «сочетанием растущего безразличия к жертве и механистичной массовости»[139].
И это было только начало будущих потрясений, которые выпали на долю жителей Симферополя и Крыма в ХХ столетии. Запущенный в октябре 1917 г., маховик репрессий в стране вращался до середины 1950-х гг., а некоторые рецидивы насилия случались и позже.
Катастрофические последствия эпохи террора сказываются и в настоящее время. Преодоление их является важной необходимостью. Без этого невозможно подлинное национальное возрождение.
[1]Брошеван В.М. Симферополь: белые и темные страницы истории (1918-1945 гг.). Историко-документальный хронологический справочник. – Симферополь: ЧП ГУК, 2009. — С.8
[2] Филоненко В.И. Дневник. 1918-й год. Кусочек войны // Крымъ: иллюстрированный историко-краеведческий альманах. Вып.2 – С.224-225
[3]ГА РФ, ф. р470, Оп. 2, д. 89. – Л.4
[4] Там же.
[5] Филоненко В.И. Указ. соч. – С.225
[6] Указ. соч. – С.226;229
[7] Указ. соч. – С.226
[8]ГА РФ, ф. р470, Оп. 2, д. 89. – Л.4-5
[9] Там же. – Л.5
[10] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории Гражданской войны в Крыму. 2-е изд., испр. и доп. Симферополь: АнтиквА, 2008. — С.284
[11] Филоненко В.И. Указ. соч. – С.227
[12] Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. – М.: Издательство «Отчий дом», 2016. – С.221-222
[13] Там же. – С.222-223
[14]Филоненко В.И. Указ. соч. – С.227
[15] Там же.
[16]Баранченко В.Е. Гавен. М.: «Молодая гвардия», 1967. — С. 83
[17] Платонов А.П. Февраль и Октябрь в Черноморском флоте. Севастополь: Крымскийистпартотдел ОК ВКП (б), Крымское государственное издательство, 1932. – С.88
[18] Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Paris: YMCA-PRESS, 1988. – С.584
[19]ГА РФ, ф. р470, Оп. 2, д. 89. – Л.5
[20] Там же. – Л.38
[21] Проблемы государственного строительства в Крыму в 1917–1922 годах. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. – С.100
[22]Бикова Т.Б. Створення Кримської АСРР (1917–1921 рр.) – Київ, 2011. – С.73
[23]ГА РФ, ф. р470, Оп. 2, д. 89. – Л.34
[24] Там же. – Л.35
[25] Там же. – Л.28
[26] Протоиерей Николай Доненко. Наследники царства. Симферополь: «Бизнес-Информ», 2004. Кн. 2. – С.31
[27]ГА РФ, ф. р470, Оп. 2, д. 89. – Л.16
[28] Там же. – Л.23
[29]Там же. – Л.18
[30] Там же. – Л.23
[31] Там же. – Л.36
[32] Елизаров М. А. Левый экстремизм на флоте в период революции 1917 года и Гражданской войны: февраль 1917 — март 1921 гг.: диссертация на соискание учёной степени доктора исторических наук.- Санкт-Петербург, 2007. – С.242
[33]Бикова Т.Б. Указ. соч. – С.76
[34] Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ. соч. – С.284; Платонов А.П. Указ. соч. – С.92
[35] Филоненко В.И. Указ. соч. – С.227
[36] Гагарин Е.Н. Героиня неизвестная // Красный террор на Юге России / Предисл., комментарии С.В. Волкова — М.: Айрис-пресс, 2013. — С.14; 16-17
[37] Указ. соч. – С.17-18
[38] Указ. соч. – С.18
[39] Вениамин (Федченков), митрополит. Указ. соч. – С.226-227
[40] Там же. – С.227-228
[41] Мельгунова-Степанова П.Е. Дневник: 1914-1920. – М.: Кучково поле; Люкс-Принт, 2014. — С.160-161
[42] Бунин И.А. Окаянные дни. СПб: Азбука-классика, 2003. С. 94
[43]ГА РФ, ф. р470, Оп. 2, д. 89. — Л.8
[44] Там же. — Л.9
[45] Там же.
[46] Там же. – Л.9-10
[47] Там же. – Л.10
[48] Там же.
[49] Там же. – Л.13
[50] Там же. – Л.24-25
[51] Владимирский М.В. Указ. соч. – С.63
[52] Там же. – С.65-66
[53]Вьюницкая Л.Н., Кравцова Л.П. Дорогами революции: Путеводитель. Симферополь: Таврия, 1987. — С.67
[54]Скоркин К.В. На страже завоеваний Революции. История НКВД-ВЧК-ГПУ-РСФСР. 1917–1923: Монография. М.: ВивидАрт, 2011. — С. 845
[55]Брошеван В.М. Симферополь: белые и темные страницы истории (1918–1945 гг.). Историко-документальный хронологический справочник. Симферополь: ЧП ГУК, 2009. — С.24
[56]Надинский П.Н. Очерки по истории Крыма. Часть II. Крым в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной интервенции и Гражданской войны (1917–1920 гг.). — Симферополь: Крымиздат, 1957. — С. 171
[57]Ишин А.В. Проблемыгосударственногостроительства в Крыму в 1917-1922 годах – Симферополь: ИТ «Ариал», 2012. – С.109-110
[58]Крымский щит России – Симферополь: Н.Орiанда, 2019. – С.15
[59] Владимирский М.В. Указ. соч. – С.210
[60]Скоркин К.В. На страже завоеваний Революции. Местные органы НКВД-ВЧК-ГПУ РСФСР. 1917-1923: Справочник. — М.: ВивидАрт, 2010. – С.396
[61]ГА РФ, ф. р470, Оп. 2, д. 89. – Л.29
[62] Там же. — Л.10, 40
[63] Там же. — Л.40
[64]Там же.
[65] Там же. – Л.10
[66] Там же. – Л.29
[67] Там же. – Л.10
[68] Там же. – Л.30
[69] Там же. – Л.10-11
[70] Там же. – Л.11
[71]Там же. – Л.33
[72]Оболенский В.А. Указ. соч. – С.741
[73]История городов и сел Украинской ССР. Крымская область. — Киев, 1974. — С.89
[74]В Крыму после Врангеля (Рассказ очевидца) // Крымский архив, № 2 — Симферополь, 1996. — С. 59
[75] Там же. – С.59-60
[76]Там же. – С.59
[77] Там же. – С.60
[78]Фрунзе М.В. Памяти Перекопа и Чонгара (страничка воспоминаний) // Перекоп и Чонгар. Сборник статей и материалов. Под общей редакцией А. В. Голубева. — М.: Государственное военное издательство, 1933. – С.31
[79]Бикова Т.Б. СтворенняКримської АСРР (1917–1921 рр.) – Київ, 2011. — С.132
[80]Ревкомы Крыма. Сборник документов и материалов. – Симферополь,1968. – С.23-24; 44-45
[81]В Крыму после Врангеля (Рассказ очевидца) – С.60
[82] Тинченко Я. 12 тысяч. Крымские расстрелы, 20.11.1920-18.04.1921. // Реабилитированные историей. Автономная Республика Крым: Книга десятая. – Киев: Институт истории Украины НАН Украины, 2021. – С.109-110
[83]Хатаева Е. Жизнь в Красном Крыму. Крымские и московские страницы дневника. (Публ. Побожего С.) // Крымский альбом 2003. Историко-краеведческий и літературно-художественный альманах [Выпуск 8] / Сост., предисл. к публ. Лосева Д.А. – Феодосия; М.: Издательский дом «Коктебель», 2004. – С.140
[84]В Крыму после Врангеля (Рассказ очевидца) – С.60
[85]Тинченко Я. Указ. соч. – С.112
[86]Там же.
[87]В Крыму после Врангеля (Рассказ очевидца) – С.60
[88]Абраменко Л.М. Последняя обитель. Крым, 1920-1921 годы. – К.: МАУП, 2005. – С.222
[89] Тинченко Я. Указ. соч. – С.120
[90] Там же. – С.121
[91] Там же.
[92] Там же. – С.120
[93] Там же. – С.121
[94] Там же.
[95] В Крыму после Врангеля (Рассказ очевидца) – С.60-61
[96] Там же. – С.61
[97]Бекторе Ш. Волги червона течія. Спогади. — Сiмферополь, Доля, 2003. — С.19-20
[98]Данилов И. Воспоминания о моей подневольной службе у большевиков // Архив русской революции, т. XVI, Берлин, 1925. — С. 166
[99]В.И. Вернадский и Крым: люди, места, события… / Н.В. Багров, В.Г. Ена, В.В. Лавров и др. — К.: Лыбидь, 2004.- С.204-205
[100]Мельгунов С.П. Красный террор в России 1918-1923 гг. Чекистский Олимп. М.: Айрис-Пресс, 2006. – С.114
[101] Тинченко Я. Указ. соч. – С.169-170
[102] Там же. – С.170
[103] Там же. – С.171
[104]Там же.
[105] Данилов И. Указ. соч. – С.167
[106]Вернадский В.И. Дневники 1917-1921 (февраль 1920-март 1921) – Киев, Наукова думка, 1997. – С.115
[107] Тинченко Я. Указ. соч. – С.172
[108] Там же.
[109] Там же. – С.173
[110] Там же. – С.173-174
[111] Там же. – С.174-175
[112] Там же. – С.175
[113]Годовой отчет Крымской Чрезвычайной Комиссии за 1921 год // 95 лет КрымЧК. Сборник. ГУП РК «Издательство и типография «Таврида». – Симферополь, 2016. — С.63-64
[114] Тинченко Я. Указ. соч. – С.177
[115] Годовой отчет Крымской Чрезвычайной Комиссии за 1921 год // 95 лет КрымЧК. Сборник. ГУП РК «Издательство и типография «Таврида». – Симферополь, 2016. — С.125
[116]Видоменко В.А. Предисл. к кн.: Орлов Г.С. Тревожные будни: очерки о чекистах. – Симферополь: Таврия, 1987. – С.6; Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ. соч. – С.670
[117] ВЧК. 1917-1922. Энциклопедия / Авт.-сост. А.М. Плеханов, А.А.Плеханов. – М.: Вече, 2013. – с.196-197
[118] Цит. по: Николай Доненко, протоиерей. Ялта – город веселья и смерти: Священномученики Димитрий Киранов и Тимофей Изотов, преподобномученик Антоний (Корж) и другие священнослужители Большой Ялты (1917-1950-е годы). – Симферополь: Н.Оріанда, 2014. – с.595
[119]Ишин А.В. Проблемы государственного строительства в Крыму в 1917–1922 годах. – с.306
[120] Золотарев В. «Товарищ Стах» // https://abai.kz/post/4491 (дата обращения: 15 октября 2010).
[121] Прохоров В.В. Утворення радянських органів охорони громадського порядку та громадської безпеки Криму (листопад 1920 р. – лютий 1921 р.) // XIТаврические научные чтения, г. Симферополь, 28 мая 2010 года. – Симферополь, 2011. – с.87
[122]Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Указ. соч. – С.670; Николай Доненко, протоиерей. Указ. соч. – С.596
[123]Ишин А.В. Указ. соч. – С.315-321
[124]Крыштич Д. Двое суток в Симферопольской чрезвычайке // Сост., предисл. д.и.н. Волкова С.В. М.: Айрис-пресс, 2009.– С.201-210
[125] Петров В.П. К вопросу о красном терроре в Крыму в 1920-1921 годах // Проблемы истории Крыма. Тезисы докладов научной конференции (23-28 сентября). Выпуск второй. – Симферополь, 1991. – С.91
[126] Абраменко Л.М. Указ.соч. – С.180
[127]В Крыму после Врангеля (Рассказ очевидца) — С.61
[128]Красный Крым, №18, 12 декабря 1920 г.
[129] Там же.
[130] Красный Крым, № 29 (63), 9 февраля 1921 г.
[131] Красный Крым, № 30 (64), 10 февраля 1921 г.
[132] Красный Крым, №5, 27 ноября 1920 г.
[133] Там же
[134] Красный Крым, №7, 30 ноября 1920 г.
[135] Там же.
[136] Красный Крым, №12, 5 декабря 1920 г.
[137] Красный Крым, № 9, 2 декабря 1920 г.
[138] Там же.
[139] Булдаков В.П. Революция, насилие и архаизация массового сознания в Гражданской войне: провинциальная специфика // «Белая гвардия», №6, 2002. — С. 9